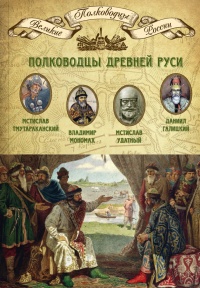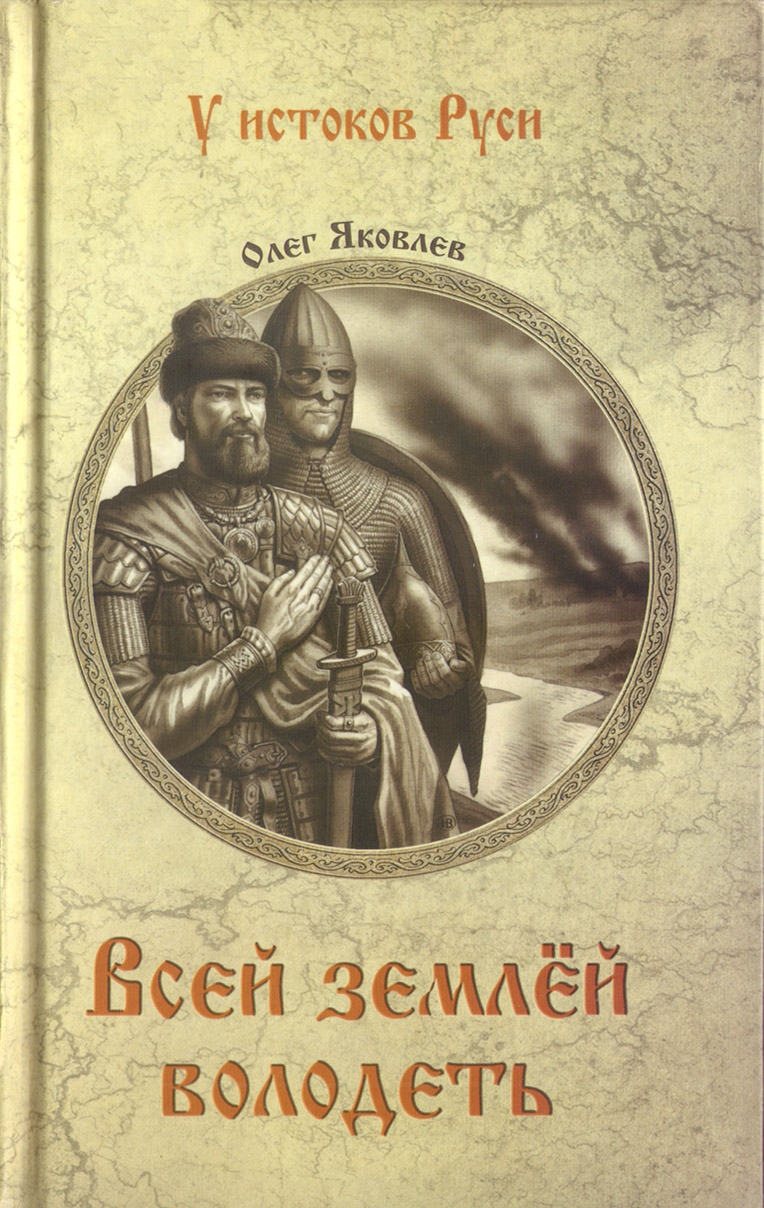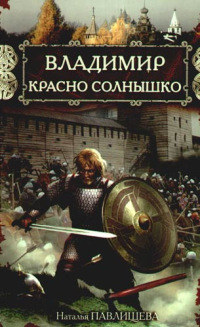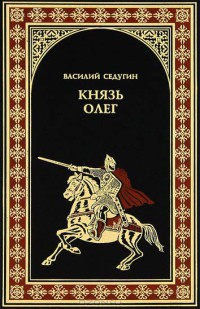её поддержке и наставлении.
Уже наступили сумерки, когда она поднялась с колен, в последний раз глянула на мраморную раку, в которой покоился её супруг, и вышла из костёла. Свежий вечерний ветерок приятно освежил лицо. Вдовая королева прошла к берегу Влтавы, постояла возле Сововых мельниц, слушая шум вращающихся колёс, затем долго всматривалась в высящиеся за рекой строения Вышеграда. Утлые рыбачьи челны медленно скользили по речной глади. Откуда-то со стороны посада лились звуки грустной девичьей песни. Холод одиночества, доныне прикрытый властью и короной и потому не обнажённый, не пробирающий до костей, вдруг обдал её всю – и тело, и душу. Но сдержалась, отогнала от себя прочь этот холод Предслава – было ей ради чего жить на белом свете. Дьявольский холод унёсся прочь, Предславе показалось даже, что слышит она удаляющийся свист злого ледяного ветра. Заколыхался долгий подол чёрного платья, она приподняла его и быстро засеменила наверх, к строениям Пражского Града. Верный Халкидоний спешил за госпожой следом.
Сыновья ждали мать в дворцовой часовне. Тринадцатилетний Владимир горько плакал, размазывая по щекам слёзы. Семнадцатилетний Конрад держался, только сжимал дёргающиеся уста, над которыми проступал первый пушок.
– Дети, сыны мои! Толковня у нас с вами будет ныне! – объявила Предслава.
Сыновья покорно, понурив головы, поплелись через тронный зал в палату.
Мать, усадив их напротив себя, долго смотрела на насупившиеся сосредоточенные лица.
«Какими будете вы? Добро ли земле своей принесёте? Гордиться ли я вами буду али сожалеть о деяньях ваших?!» – думала Предслава.
Старший, Конрад, не любил науки, книги читал весьма неохотно, хотя и неглуп вроде был, рассуждал порой вельми здраво. Владимир, наоборот, питал страсть ко книжной премудрости, с большим рвением изучал писание и языки, мог легко изъясняться по-немецки и по-угорски, а также немного баял по-гречески. За последнее лето окреп Владимир, налились силою его мускулы, да так, что иной раз и старшего брата он одолевал, когда в шутку боролись они меж собой во дворе замка. Конрад же с годами всё более напоминал Предславе незабвенного Матею.
«Надо же, и взор такой же орлиный, и голову так же гордо держит». – Королева невольно залюбовалась высоким черноволосым красавцем-сыном.
– Отца схоронили. Заутре ты, Конрад, поедешь в Оломоуц, на княжение. С тобой вместе пан Лопата с сыном отправится и Иржи. Пора тебе, сынок, стол княжеский получать. Ведаешь, как у нас на Руси? С тринадцати годов княжичи юные на столы садятся. И мои братья такожде. Со младых лет должен князь учиться доле своей – подати собирать, суды творить, землю родную от ворогов боронить. Ты же, Владимир, поедешь покуда в Угрию, в город Печ. Друг наш, епископ Бонифертий, ждёт тебя. Обучать тя почнёт богословским наукам, коли сам ты того возжаждал.
– Да он, матушка, и вовсе в монахи идти собрался, – косо, с неодобрением глянув на младшего брата, промолвил Конрад. – Говорит, один у мя отец, одна мать – Иисус Христос. Ему служить хочу.
– А тя кто за язык тянет! – Владимир, не сдержавшись, больно ударил старшего брата по плечу.
Конрад ответил ему тем же, меж княжичами едва не вспыхнула драка. Предслава стукнула кулаком по столу.
– А ну, прекратите! Стыдитесь! Какой пример другим показываете! Токмо и слышу от холопок да от отроков, как друг дружку тумаками угощаете! Что в монахи идти надумал – то правда?! – строго воззрилась она на молодшего сына.
Владимир смутился, покраснел, потупил очи.
– Да есть мысли такие. Токмо мал я покуда, рано о том баять, – пробормотал он.
Предслава, недовольно сдвинув брови, смолчала. Ей не хотелось, чтобы внук Владимира Крестителя избрал стезю служения Господу. Но вспомнила внезапно вдовая королева пророчество Майи Златогорки: «Один сын твой – в шапке княжеской, другой – в сутане». Может, Майя была права? Как знать?
– Вот и я полагаю: рано тебе о монастыре думать! Что ты ведаешь о монашеской жизни?! Да знаешь ли, сколь тяжек крест отречения от мира?! Уговоримся тако: вот побудешь в Пече, воротишься, съездим с тобою в монастырь на Сазаве. Поглядишь, как божьи люди живут. А ты, Конрад, жди меня в Оломоуце. Приеду вскоре, за тобой вослед. Гляжу, дети вы ещё. – Она вновь строгим оком оглядела сыновей. – А пора б вам взрослеть! За спинами старших довольно прятаться. Особо к тебе, Конрад, сии слова касательство имеют. И помните: я, мать ваша, вас не оставлю. В горе ли, в радости – всюду с вами буду, покуда силы имею. Никого ибо, кроме вас, нет у меня. Братья – далече, да и… – Она смахнула скатившуюся из глаза нечаянную слезу. – В общем, как уговорились. Заутре же пожитки свои собирайте – и в путь. А сейчас – спать.
Она решительно поднялась с лавки и перекрестила обоих сыновей.
Когда Конрад с Владимиром вышли, она опустилась обратно на лавку и обхватила руками голову. На душе было тревожно. Беспокоилась вдовая королева за своих сыновей – не натворили бы они глупостей. Дети ведь ещё, почитай. Но вместе с тем как будто некий внутренний голос шептал ей, что всё будет хорошо. В этом же убеждали её и давние пророческие слова Майи Златогорки.
Глава 72
Буковый лес подходил к самому берегу Моравы, могучие деревья раскинули над водой свои широкие зелёные ветви. Далеко ввысь, на двадцать – двадцать пять сажен, уходили толстые стволы. Широкие кроны укрывали от солнца утомлённого путника. За полосой реки заросли бука становились ещё гуще, плотной зелёной массой покрывая вершины и склоны Нижнего Есеника[249].
Оломоуц, обведённый приземистой каменной стеной, маленький и утлый в сравнении с Прагой или Краковом, с горбатым мостом через ров, наполненный отведённой из реки водой, показался Предславе каким-то кукольным, почудилось сперва даже, что не люди здесь живут, а альвы[250] какие-нибудь, выбравшиеся из недр земли. Из города вела дорога на север, на Клодзко, в те самые места, где пролегал её путь из Болеславовой темницы. Нахлынули было в душу вдовой королеве воспоминания, но она отогнала их прочь, упрятала на задворках памяти. Будет ещё время заглянуть в прошлое!
На юг бежала, змеясь, пронизывая буковый лес, другая дорога, узенькая, местами поросшая мхом. Где-то там, за лесом – скалы и страшная пропасть Мацоха, а ещё дальше – Брно с его черепичными крышами и берегом узенькой Свратки.
За Моравой, если пересечь Есеник, можно выехать к истоку Одры и напиться из туеска ледяной, ломящей зубы чистейшей воды. Южнее проходит широкий торный шлях на Угерске-Градиште – крепость, из которой сумел унести ноги её,