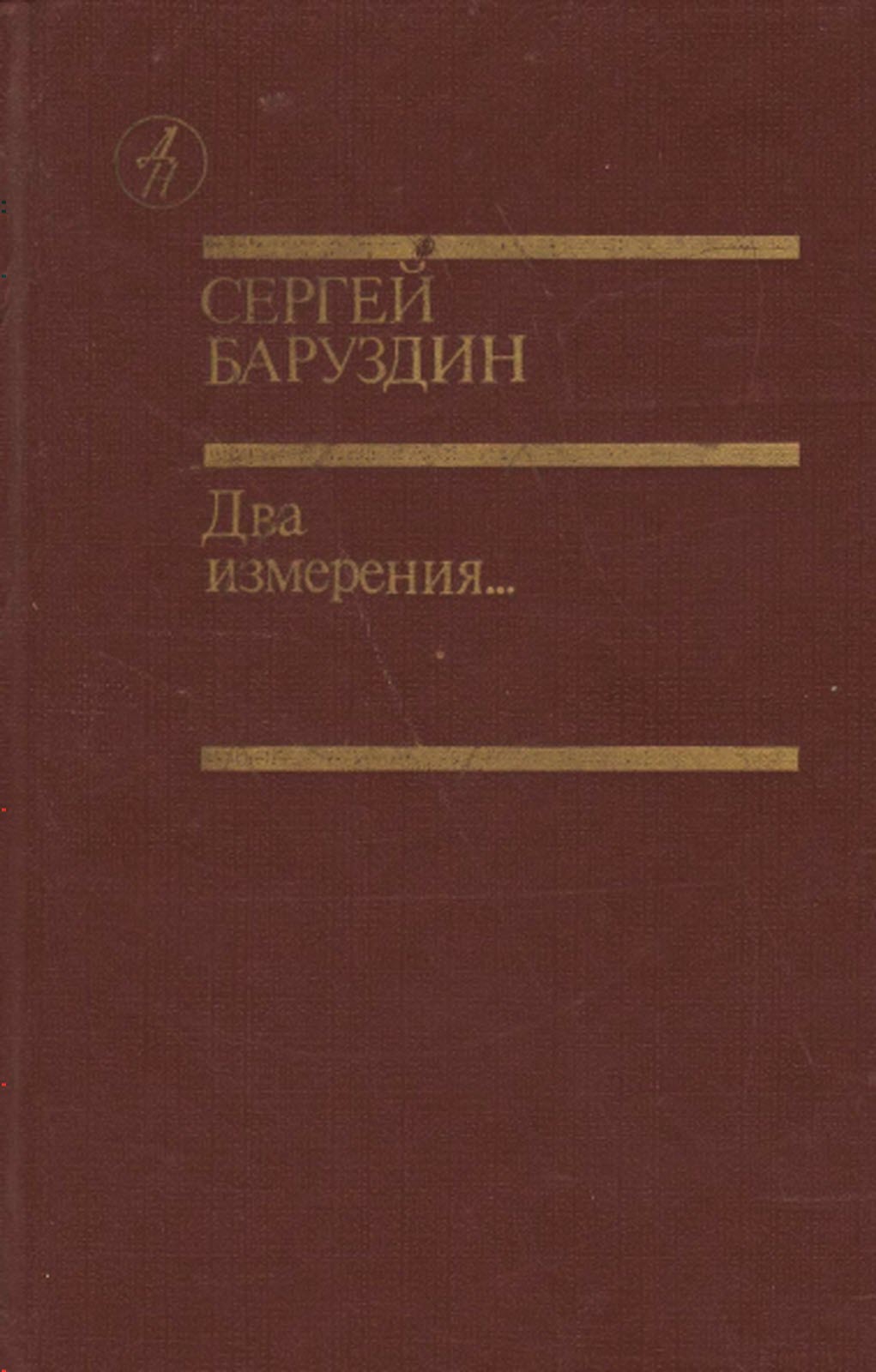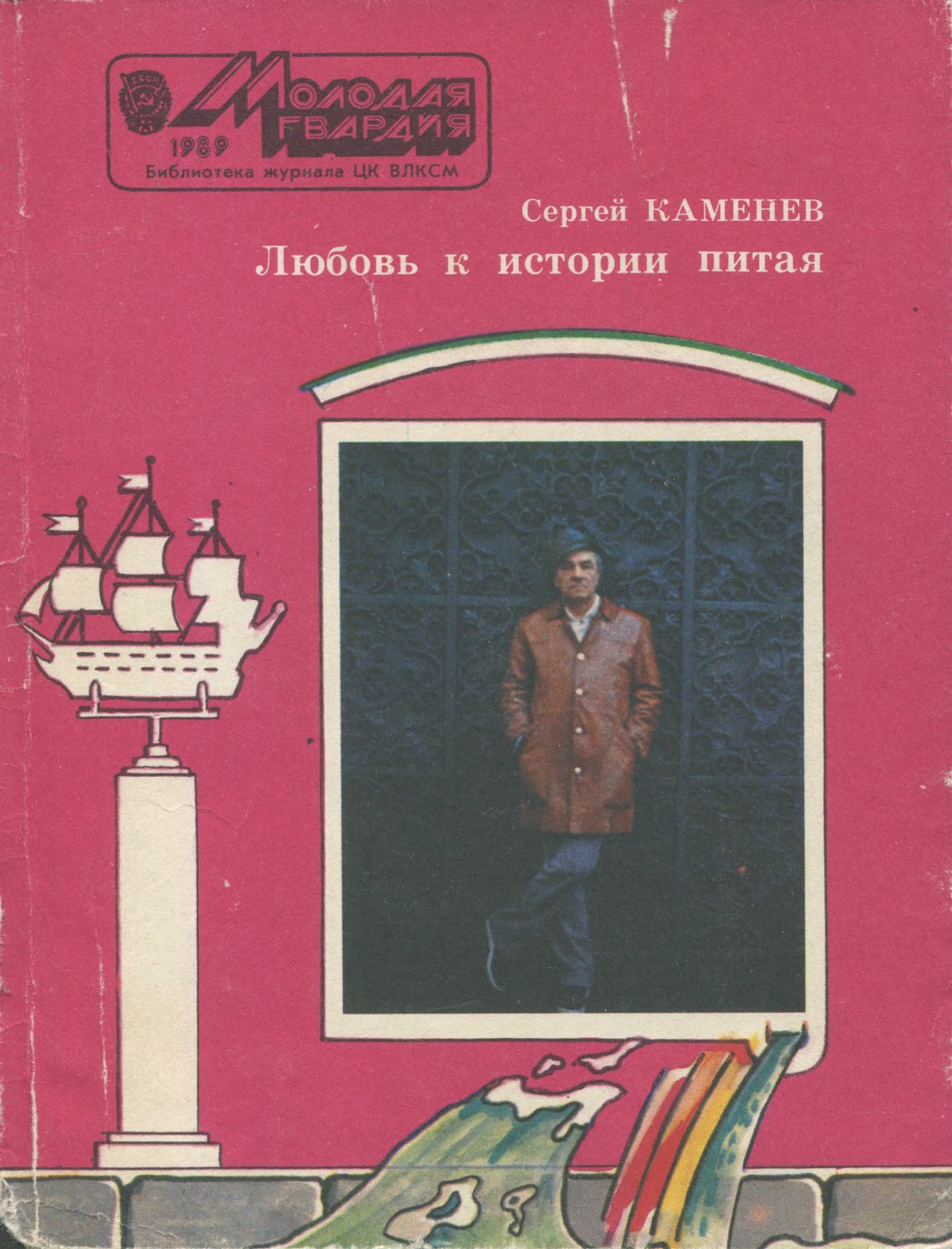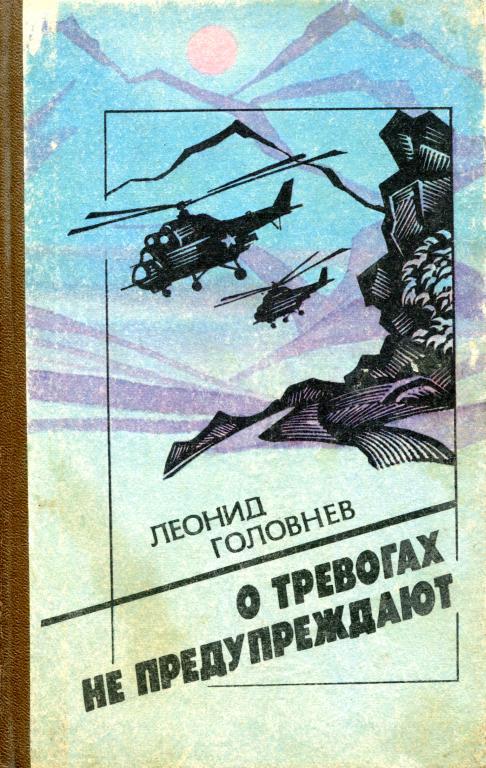шпингалетов, намертво заделанная в оконную коробку.
Ну, теперь уж никакого выхода не было. Форточка высоко. Подсадить некому. Одному отсюда не выбраться.
— Всего хорошего, — отчетливо проговорил Таракан в форточку. — Мы пошли.
— А я?.. — закричал Славик. — А я-то!..
Он стал хватать сырые, воняющие мышами бланки, папки, связки, все, что попадалось под руку, и пропихивать в форточку. Перепревшие бечевки лопались, обрывались, пачки разваливались, бумага сыпалась под ноги. Славик снова сгребал ее, хватал в охапку, проталкивал наружу, а Таракан и Митя подбадривали его.
Славик так увлекся, что совсем забыл бояться. Спохватился он оттого, что за окном была мертвая тишина.
И в этой мертвой тишине раздался голос режиссера:
— Так я и знал! И ворота настежь.
— Не может быть! — Это был голос Тани.
— С вами я не хочу разговаривать. А вы куда смотрели?
— Я за ворота не отвечаю. — Это был голос пожарника. — Я отвечаю за возгорание.
— Ну, знаете! — Голос режиссера слышался совсем близко. — Смотрите, какие бандиты! Открыли люк! Не хватало еще тут шею сломать.
— Я за люк не отвечаю, — напомнил пожарник.
Загремело железо. Приямок накрывали решеткой. Славик притаился. По инструкции Таракана, в случае появления посторонних нужно замирать на месте.
Шаги смолкли. Туго застонала задвижка ворот. Славик сел на бумажную кучу и стал ждать. Коротенькие мысли о том, что ему сегодня исполнилось одиннадцать лет, что гости съехались на пикник, что его ищут, возникали и затухали, не вызывая ни беспокойства, ни сожаления. Он почувствовал боль, пощупал руку. В том месте, где вышит якорь, матроска была порвана. Рука выше локтя раскорябана до крови…
В открытом прямоугольнике форточки виднелись бархатное небо и степные зеленые звездочки. Тучи разошлись. Мучительно набирая силу, загудел гудок лесопилки.
Славик насторожился. Десятый час ночи. Где же ребята? Неужели ушли домой? Набили бумагой наволочку и убежали. А он пускай как хочет. Наплевать им на него, хоть у него и день рождения. И Таракану наплевать, и Коське, и даже Мите наплевать. Потому что Славик не такой, как все, — «Клин-башка — поперек доска», и никогда таким, как все, ему не сделаться.
11
Гости съезжались в заречную рощу. Лия Акимовна и Нюра хозяйничали гам с полудня и, как водится, не успевали. Надо было развешивать цветные бумажные фонарики, готовить костры, студить четверти с квасом, колоть сахарные головы.
В довершение неприятностей небо хмурилось и мог пойти дождь.
Несмотря на отчаянные возражения Лии Акимовны, гости послали Нюру за виновником торжества и за забытыми граммофонными иголками, а сами весело принялись помогать.
Роман Гаврилович взялся крутить мороженницу. Начальник дистанции Павел Захарович Поляков закинул удочку-самоделку, Его приемный сын Герасим отправился собирать сушняк.
Один только Иван Васильевич был в мрачном настроении и бездельничал. «Очевидно, по службе неприятности», — решила Лия Акимовна и подошла к профессору Прессу обсудить погоду.
Профессор плотно сидел грузным низом под осиной, сложив ножки калачиком, и сооружал бутерброд из масла, крутого яйца и шпротинки. Поскольку профессор приехал из Ленинграда, ему было разрешено выпить и закусить, не дожидаясь Славика.
Он заведовал кафедрой, носил длинный, безупречно черный сюртук с черными шелковыми пуговицами, носил узкие французские усики, но, выезжая в провинцию, почему-то изъяснялся с туземцами, нажимая на «о», и изображал из себя кухаркиного сына. Он важно успокоил Лию Акимовну тем, что перед дождем у него должно ныть левое колено, и стал доходчиво растолковывать преимущество коленной чашечки перед барометром анероидом. Но дослушать его не удалось: приехали Затуловские. Лия Акимовна надеялась, что они привезут только Соню (она училась в одной школе со Славиком). Но прибыло все семейство — инженер с женой, Соня и три прожорливых мальчишки.
— А Сонечка-то, Сонечка! Вытянулась! — восклицала Лия Акимовна, целуя скучную жену Затуловского. — Берегите мужей, граждане!
Затуловский подвел дочку к профессору и дернул ее за руку.
Соня сказала грубо:
— Здравствуйте, — и покраснела.
Профессор медленно дожевывал бутерброд.
— Здравствуй, — отозвался он наконец. — Тебя как величать?
— Соня.
— Соня? — Он удивился. — Дрыхнешь небось долго. Потому и Соня.
Она промолчала.
— Перешла в седьмую группу, — объяснил отец. — Первая ученица.
— Ну, папа! — Соня покраснела еще сильней.
— Первая? — Профессор снова удивился. — Ты что же, красавица, хочешь стать второй, как ее… мадам Кури, кажется… или Прикури… А? Как правильно?
Соня знала, что она не красавица, что у нее толстые губы и прыщи и что профессор притворяется, будто забыл фамилию знаменитой ученой.
— Ты что, немая? — спросил отец.
Она тупо смотрела на шелковые, похожие на заклепки пуговицы на профессорском сюртуке и ждала, когда ее кончат мучать.
— У тебя что. язык отсох? — прошипел отец.
Она молчала, упрямо выпятив прыщавый лобик. Ей было невыносимо.
— Больше никуда не поедешь! Так и заруби на носу!
В отдалении, у самого берега, лежал наполовину в воде старый осокорь. Он был завален молнией, но все еще выбрасывал свежие зеленые ветки. Соня устроилась между толстыми сучьями и твердо решила просидеть здесь до конца.
Ей было тринадцать лет, и чувство человеческого достоинства у нее еще не замозолилось.
Притаившись среди ветвей, она заметила Ивана Васильевича. Он лежал у самого берега, в траве, и смотрел на реку.
Он думал про Ольку. Недавно рассказывали, как вызвали ее к доске доказывать теорему о сумме трех углов треугольника. Доказательства она не выучила. Подумала немного, начертила прямоугольник, провела диагональ и говорит: «Вот и все». И действительно: в прямоугольнике четыре прямых угла — триста шестьдесят градусов. Диагональ раскалывает его на два одинаковых треугольника. Значит, на долю каждого треугольника остается сто восемьдесят градусов. Рабфаковцы гордились: «Вот наша, рабочая комсомолка, из инструменталки, а заткнула за пояс самого Евклида…»
В тот вечер, когда они натолкнулись на Славика с ирисками, Ивану Васильевичу все-таки удалось уломать Ольку побыть с ним немного. И они отправились в заречную рощу, он впереди, она — саженей на десять позади его, как обычно.
Они пришли не на это место, а немного подальше — пожалуй, с версту отсюда, — к заливчику, окаймленному розовой, обожженной солнцем осокой. Осока росла густо, невозможно было разобрать, где кончается берег и начинается вода. На полянке стоял киргизский приземистый стог, туго обжатый слегами.
Они сели в пахучее сено. Он обнял ее.
Когда Олька задумывалась, не только глаза, но и все ее красивое, загадочно-неподвижное лицо казалось египетским, и Ивану Васильевичу приходило на ум, что она видит не то, что есть, а то, что будет. В тот вечер она была странно, по-взрослому, печальна. Иван Васильевич пытался развлечь ее. Как только перевезут ферму, он разведется и увезет Ольку