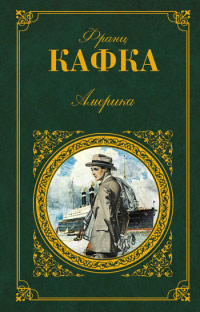мой дядя поверил и спросил:
— И как там еда?
— О, полный отпад! Тем более мы питались бесплатно, потому что мыли там посуду… В общем, весело провели время, познакомились с кучей сербов…
Мой дядя фыркнул, сказал «да уж веселье» и не стал дослушивать. Он ничего не хотел слышать о сербах, он достаточно насмотрелся на них, практично заметил мне, что если я поступлю на какие-нибудь курсы в Доме культуры, при котором находилась эта кантина, то буду получать бесплатные завтраки.
— Совсем бесплатные, понимаешь? — сказал он, и показал мне философа, который вещал что-то африканцам по-французски в дальнем углу у окна.
Еще не старый датчанин. Ему было лет шестьдесят. Но он выглядел значительно… он кого-то мне этой уверенностью в себя напоминал… в Философе чувствовалась какая-то стильность, несмотря на то что на нем все было изношено, помято, тем не менее он выглядел очень круто, наверняка он донашивал обноски из гуманитарного магазина, и все равно он выглядел очень импозантно: старое пальто с высоким воротником, на воротнике было несколько круглых значков (Led Zeppelin, Dead Kennedys, Sex Pistols и тому подобное), большие деревянные пуговицы, подшитые нитками разного цвета, длинный шарф цвета тающей радуги, английский твидовый пиджак, под которым бил свитер под горло, и поверх свитера жилет, что, конечно, возмутило моего дядю, это было нелепо, согласен, как и его шерстяные перчатки с обрезанными кончиками пальцев, которые можно было бы и снять в помещении, но, принимая в расчет, что человек жил на своей лодке, которая стояла в гавани неподалеку, на воде, постоянно шатался по Амагеру, обдуваемому со всех сторон, свитер и жилетка были оправданны, как и обрезанные шерстяные перчатки, выставлявшие напоказ закопченные от выкуренных самокруток пальцы, в моих глазах Философ был полностью оправдан, его образ мыслей, который избороздил его лоб тугими морщинами, целиком оправдывал его костюм, который был выражением и логическим продолжением его мыслей и образа жизни. Я тут же хотел с ним познакомиться, но мой дядя не дал мне этого сделать, он поторопил меня прикончить мой плов, допить мой стакан молока и отправляться с ним на какую-то выставку, я хотел от него отклеиться, придумывал повод, никак не мог сообразить, мой мозг туго соображал, потому что мне требовалась новая доза, или хотя бы курнуть, поэтому я послушно поплелся за ним, как выяснилось, он сам не знал, как идти в галерею, мы сбились с пути и вместо выставки пошли в какой-то магазин, но попали на склад, где он долго выбирал и отмерял себе рейки, из которых собирался делать рамки для своих шедевров, краски, кисти, гвоздики и еще какие-то мелочи, я помог ему нести, взял письма и деньги (500 долларов), попрощался и ушел, отказавшись от выпивки. Я направился в центр, разменял бабки и пошел в кантину в надежде на встречу с Философом, но по пути мне стало нехорошо, я увидел, что сенбернара нет у дверей кантины, прочитал надпись, что кантина уже закрыта, черт, я так устал, забежал в магазинчик, купил маленькую бутылочку шнапса, нашел скамейку в тихом уголке без ветра, дернул шнапса, закурил, достал из кармана письма и начал читать…
Дни ее тянулись, как коридоры, в которых было много одинаковых дверей, и все двери почти всегда были заперты; случалось, ей давали ключи, чтобы прибралась и в кабинетах, но это были редкие дни (и ключи ей казались тяжелей, чем обычные, и взгляд, с которым выдавали их, западал в душу, возвращаясь во сне в виде снегоуборочной машины); в основном ей приходилось мыть коридоры: в бухгалтерии, школах, полицейских участках и даже в мэрии… в мэрии убирать проще всего, потому что там даже пыль не скапливается, потому что там никто ничего не делает, ничегошеньки, и пыль не образуется, одни только мячики разноцветные летают, сидят ряженые в костюмы люди, девушки, юноши, и мэр наш, на Деда Мороза смахивающий, сидят там, мячиками цветными перекидываются, чтобы стресс снять, они стресс снимают, вот и вся работа, никакой пыли, потому что ей неоткуда там взяться, у мэра такие молоденькие девочки работают в аккуратных костюмах, и стрижки у них такие аккуратные, манжеты белоснежные и туфельки на высоком каблуке, земли не касаясь плывут, как ангелы, от них никакой пыли и быть не может, они даже бумаг никаких не пишут, у них там вообще и нет никаких бумаг, и откуда там бумагам взяться, в мэрии, если все эти девочки только за компьютерами и сидят, сидят и все про всех знают, только посмотрят в свой компьютер, а потом на тебя, и уже все прочли, и где я работала, на Пеэгелъмана, лудила, и на керамическом, на обжиге, и на Калининском в ртутном цехе, и на вальцовке, и про машиностроительный завод тоже знают, знают-знают, и что в депо электрички мыла, каждое окошко, и про то, что с тобой сижу на этой скамейке, про это тоже знают, и про твои романы, которые ты сжег, они про все-все знают, а потом ногтями щелк-щелк, нас с тобой, как букашек, в графу вписали, и тут мы и есть, на этой скамеечке, две букашки-таракашки, сидим, между прочим, в полицейском участке тоже легко убирать, потому что там пол с подогревом, пока моешь, вода сохнет, можно мыть бесконечно, как отец заставлял, Славка, негодный, помнишь, как он меня мыть пол заставлял, у-у, лютый был, одно слово: полицай! и во всех камерах теперь чисто, красиво, пол с подогревом, можно прямо на полу ночевать!
И она оставалась, она часто оставалась ночевать на работе, даже когда я был маленький, она уходила и не возвращалась, потому что ее тошнило от дома; наши с ней любимые дни — когда отец был на дежурстве, мы знали: он в эту ночь не вернется, а на следующий день будет спать, будет тихий…
Иногда она оставалась ночевать в камере; потому что дома ждало ничто, на нее смотрел с дивана большой плюшевый медведь, он сидел в парике подле зеркала, с бантом на шее, и улыбался ей нарисованной помадой улыбкой, насмешливо улыбалось его отражение — глазами медведя смотрело ничто; она пугалась, но, пересилив себя, показывала ничто язык, запирала дверь и шла в свою спальню, — так зачахли все цветы, которые она разводила в гостиной, так покрылись пылью все мои книги, и все куклы, которые стояли на подоконниках, глядя на улицу, — она им прежде махала рукой и приговаривала: «Иду-иду! Сейчас-сейчас уже иду!» — а теперь перестала, потому что там