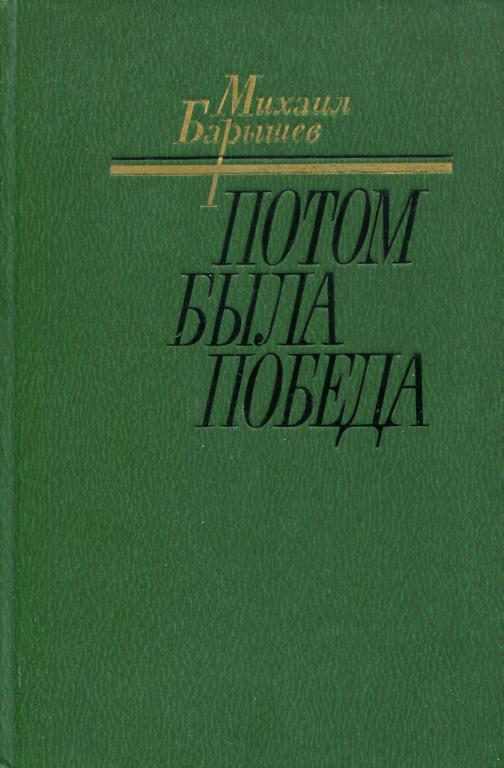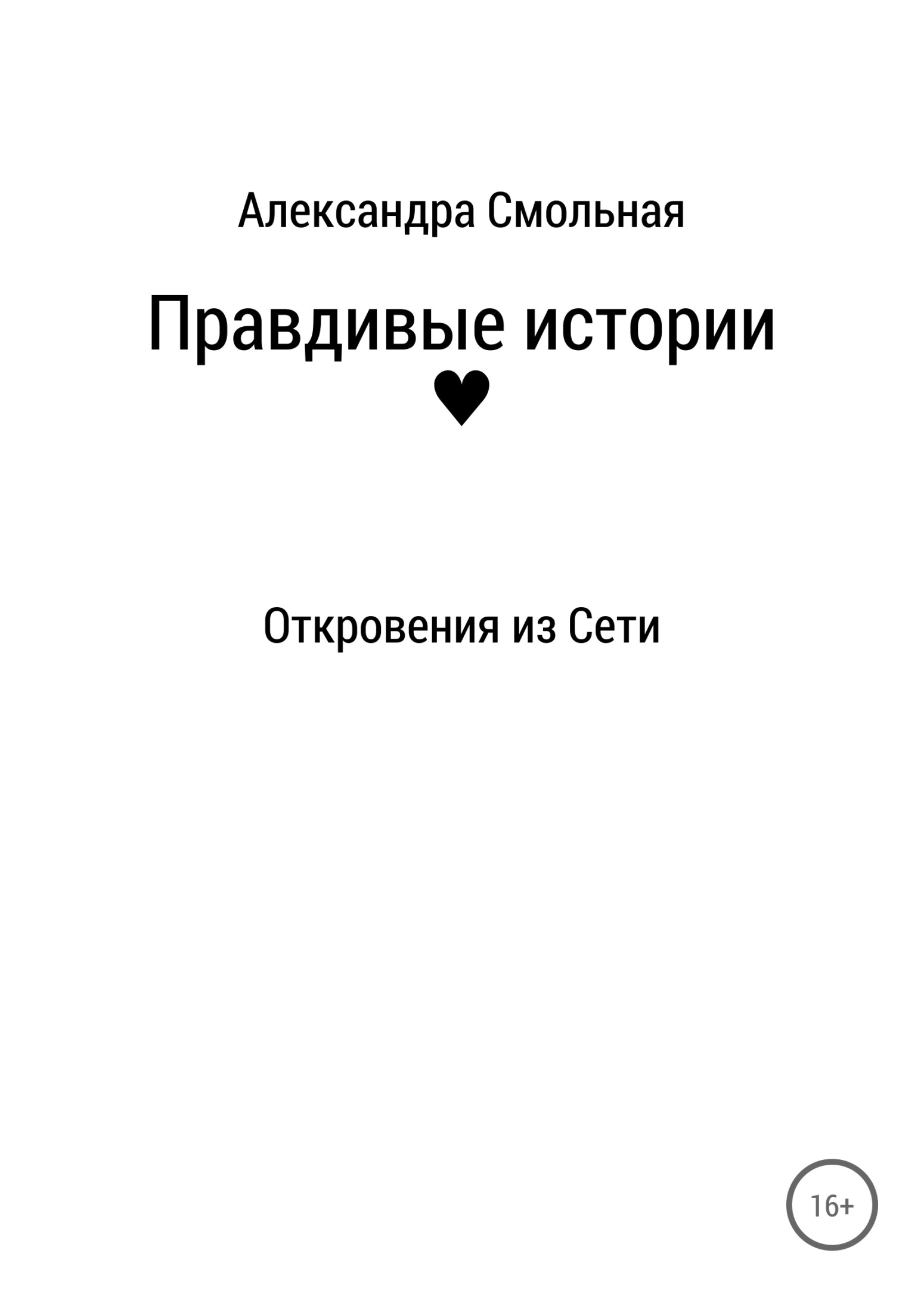понял: достаточно делать все как другие — и твоя социальная безопасность обеспечена. И даже карьера. Но вот прошло двадцать лет, и теперь, если не приносишь с собой что-то новое, ты погиб. Ты труп, и тебя обнаружат по запаху. В наше время надо учиться у будущего, а не у прошлого. У юности надо учиться.
Он был доволен собой, доволен, что производит на мать впечатление. Каждый день ему приходится завоевывать ее, а завоеванное удерживать большими усилиями. Он сейчас в состоянии войны за нее. Только не знает врага...
Мать на сей раз не возражает ему с ненавистью, как это бывает в последнее время часто.
Он теперь старается не говорить ничего такого, что ее раздражает. Сам становится радикалом ей в угоду.
Но и одобрения он от нее не дождется. Она слушает вполуха. Для нее сейчас куда важнее залучить меня хоть на минутку и присосаться умоляющим отчаянным взглядом. Я так и чувствую эту напряженную воронку ее слуха, жадно протянувшегося ко мне через стенку. Она должна мною проверить себя. Я сегодня — ее лакмусовая бумажка. Ей смерть как надо поглядеть, какого я стану цвета: права ли она или виновата?
А я не показываюсь из своей комнаты. И это, собственно, и есть мой цвет. Я предал ее, я бросил ее одну с ее выбором, я избежал взгляда, я избежал слова, любого контакта, а она так ждала от меня если не оправдания, то хотя бы прощения.
А я люблю моего отца. Я люблю моего бедного отца. Хоть он и проигрывает жизнь. Именно поэтому я с ним. К тому же он еще не догадался, что проигрывает. Что проиграл. Я тут имею в виду уже не мать, не эту их треугольную историю. Я имею в виду историю.
Ловцы истины
Весь световой день мы строили, мы клали кирпичи, палило солнце, пот струился, налипала пыль и мухи докучали.
А вечером — в барак. Во дворе рукомойник, под ним вырыта канавка, за день вода впитывалась внутрь земного шара, замыливая стенки. Вода уже холодная под вечер: это август. Скорей бы в город, к Олеське. Я оставил для нее письмо у Феликса; он должен передать ей, как только она вернется от тетки. Я не мог оставить это письмо ее отцу: прочитает, гад. А там!.. Я, обидевший, должен был для компенсации унизиться перед нею еще ниже, плашмя распластаться, чтоб ей можно было по мне потоптаться в победном папуасском танце, бряцая зубовным ожерельем и тряся пальмовой юбочкой. Видимо, природа вечно требует от нас этого жертвоприношения языческому богу пола, и мы, один за другим, преклоняем колена и опускаем головы ниц. «Олеська, почему ты не приехала?!! Я гибну без тебя, я не могу без тебя жить, я люблю тебя, я молюсь на тебя, преклоняюсь перед тобой! Иначе я умру!» Ну, и сколько еще я должен? Что еще требуется от меня?
И каждый день я ждал ее. Городской автобус приходил по вечерам, на закате я вглядывался в золотой расплав воздуха, в котором двигались подтаявшие фигурки людей, я сглатывал слюну и напрягал зрение, подсказывая действительности очертания Олеськиного силуэта, чтобы действительность могла по моим чертежам исполнить его.
Однажды пронесся слух (нет, вопль), что автобус разбился, погибли люди. Деревня волновалась целую неделю. Ехал в том автобусе и сын бабы Мили, ехал на ее похороны. И хоронили бабу Милю без него. Ужас прикосновения смерти отражался в эти дни на многих встречных лицах. Деревенский люд еще не разучился этому детскому ужасу. Который мне уже не разделить.
Даже мысль «вдруг Олеська тоже ехала в том автобусе?» не могла сделать меня сопричастным ему.
Душа моя занята другим.
Пора, в общем-то, подводить дело к суду. Прокурором поставим Владимира Соловьева — серьезный был человек, государственный, не анархист какой-нибудь, как многие философы. Защищает пускай Майстер Экхарт — понимал и человека, и суть вещей. А судья — кому доверим рассудить того, кто и суду-то человечьему не подлежит? Видимо, тому, кто сам сомневался, метался и мучился. Паскалю.
Итак, суд. Феликс обвиняется в самоубийстве Офелии.
Подсудимый сказал:
— В доморальный период человечества поступки расценивались по их следствиям. В Китае успех или позор детей ложился на родителей — как на причину. Следующий затем период — моральный: поступок судят по намеренью. Я открыл собою новый период: имморальный. Мы, имморалисты, полагаем, что на свете нет моральных явлений, есть лишь моральные толкования явлений. Наша память говорит: «Я это сделал». Гордость возражает: «Я не мог этого сделать». В конце концов память уступает. Но я тот преступник, который не хочет умалять и поносить совершённый поступок. Подумайте хотя бы, почему вы как мухи на мед слетелись ужасаться моему поступку? — вас привлекает красота этого ужаса. В страдании есть много наслаждения, и вы ищете этого наслаждения. Всякое познание есть страдание: нарушение покоя. Уже в хотении познания, в любопытстве есть капля жестокости. Вы страшитесь увидеть и назвать это в себе. А тяга к ужасу есть в каждом из нас.
Есть книги, — продолжал он, — которые имеют обратную ценность для духа и здоровья, смотря по тому, пользуется ли ими низменная душа или высокая. Средние умы могут признать только средние мысли средних мыслителей. Высшие проблемы отталкивают того, кто осмелится приблизиться к ним, не будучи предназначен высотой и мощью своей духовности к их разрешению. Редкая душа может подняться на те высоты, откуда даже трагедия перестает производить трагическое впечатление. Я утверждаю: эгоизм есть существенное свойство благородной натуры. Эгоизм — непоколебимая вера в то, что таким существам, как мы, должны быть подчинены и принесены в жертву другие существа! В этом нет ни жестокости, ни насилия, есть лишь справедливость. Мы, однако, в состоянии вращаться между равными уверенно, совестливо и с уважением. Ради равных мы поступаемся своим правом, ибо такой обмен почестей и прав — естественный порядок вещей. Благородная душа дает, как и берет, исходя из своего инстинкта справедливости. То, что вы зовете моим преступлением, я называю исполнением долга по отношению к высшему в человеке, чему я только и согласен служить. Офелия не принимала закона справедливости, по которому высшее царит над низшим. Да, я не ожидал от нее способности к поступку, который она все же совершила. Есть деяния любви