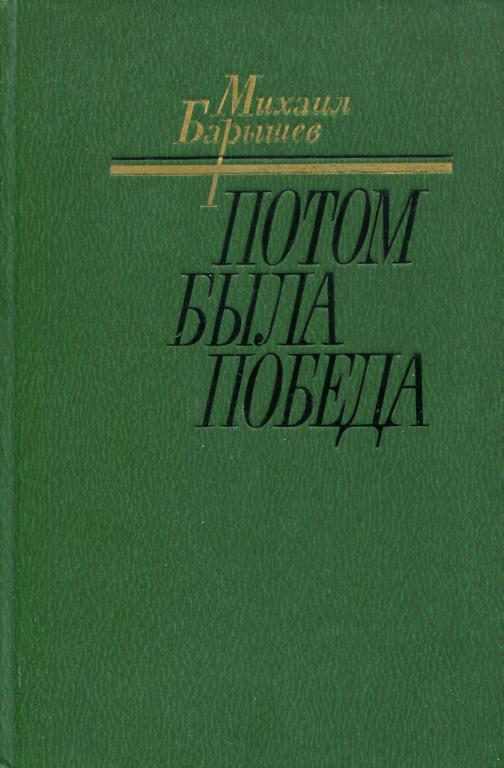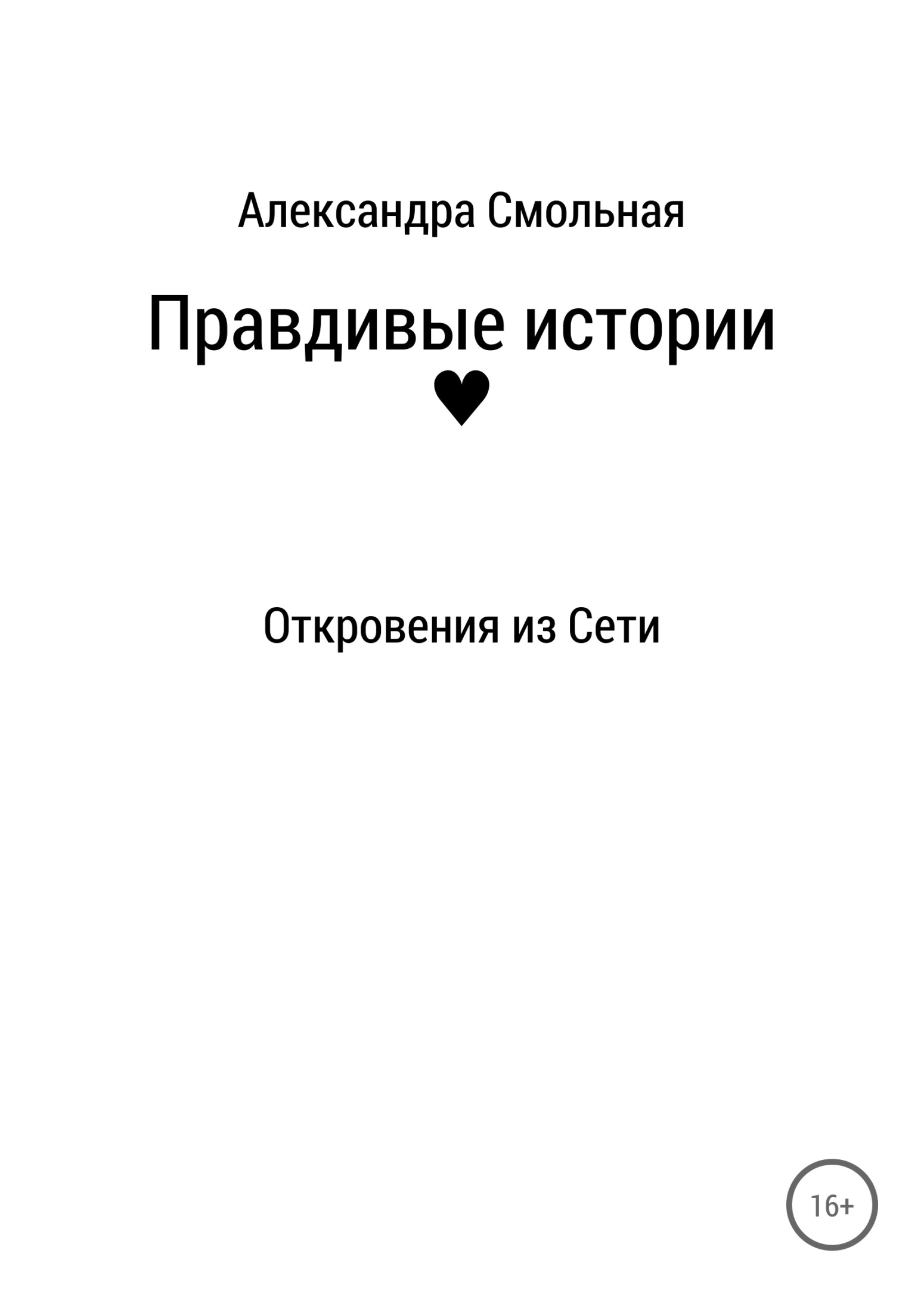совсем. Я чувствовал себя поганым предателем.
В глазах у нее смятение. Поздно поняла, что не надо было брать меня в сообщники. Я не согласился в сообщники.
Феликса пришлось уводить насильно. Я пятился к двери, подталкивая Феликса, прощался с хозяином: извините за компанию.
Мать покраснела и опустила глаза.
— Ну вот, ушли! — сердился Феликс.
— Что, Феликс, — говорю, — понравились люди? А ты к власти рвешься. Чтобы всякий из этих людей мог с презрением показать на тебя пальцем.
Феликс, кстати, узаконил и зарегистрировал свой какой-то молодежный союз, о котором я его принципиально не расспрашиваю. И он не рвется обсуждать это со мной.
И телемост с Калифорнией организует непременно.
— Что политики ничего не создают — это твои художники дали маху, — в тоне Феликса послышалась усмешка превосходства, и я вздрогнул, опознав преобладающую интонацию отцовского баритона.
— Что же ты молчал, поспорил бы с ними!
— Э-э, — мудро кхекнул Феликс (и опять я услышал отцовский голос). — Каждый хочет своей правоты и чувства незаменимости. Пусть тоже порадуются, — он засмеялся.
— Далеко пойдешь, — сказал я сухо. — Ты даже их презираешь, не говоря уже про народ.
— «Народ»? Где толпа пьет и ест, даже там, где она поклоняется, там обыкновенно дурно пахнет. Да, впрочем, сам-то ты разве не брезглив к этому самому «народу»?
Я поискал, чем защититься:
— В нашей деревне баба Миля есть, она помирает, так я единственный, кто с ней возится.
— Баба Миля? Да брось ты, что там баба Миля, ты Олеську презираешь!
В кои-то веки он стал защитником Олеськи?
— С чего ты взял?
— Она дневник свой давала тебе почитать?
— Откуда ты знаешь?
— Знаю!
— Ну и что?
— А то, что ты его даже не прочитал! То есть всем бедняга хороша, и волосы красивые, и пахнет приятно, и почему бы не использовать ее на нужды своего организма, ну а то, что она тоже человек, что в ней тоже что-то происходит — это нам, существам высшего порядка, неинтересно!
Вот так кончаются все дружбы.
Действительно, Олеська однажды спросила меня, не хочу ли я почитать ее дневник. Я еще удивился: Олеська ведет дневник? У нее, значит, есть какая-то своя духовная жизнь? Я обрадовался, я правда обрадовался: Олеська сложнее, чем я ожидал. Но вот что в том дневнике оказалось: «Сегодня ужин приготовила: вареники с капустой. Отец очень хвалил и серьезно сказал, что нет худа без добра, и хоть я с детства без матери, зато мои подруги не умеют того, что умею я». Или про то, как в школе похвалил ее химик и признал ее, пожалуй, самой способной в классе.
И ничего, кроме того, какая она, оказывается, замечательная, в этом дневнике не было написано. Да, я не дочитал его, меня доконала одна запись: что она, Олеська, дома поет, когда одна, и никто на свете даже не подозревает, что у нее «колоратурное сопрано». И все, дальше я уже не мог.
Но откуда Феликсу известна вся эта история? В особенности про то, что я не дочитал? Я и в конец этого дневника заглянул, и там похвальба. И я вернул Олеське этот дневник, да, кстати, в тот самый день перед отъездом, в тот злополучный день, когда мы заходили сфотографироваться и договорились до того, что она моя невеста. Ах, она же мне в тот вечер еще позвонила, а я как раз обдумывал, как Феликс ее убьет...
Так вот в чем дело, вот почему она не приехала ко мне в деревню. «Оне обидемшись», как мы говаривали. Значит, в дневнике был какой-то секрет, который я пропустил. Возвращая его Олеське, я еще сказал:
— Смотри-ка, а я и не знал, сколько в тебе талантов! — И она, довольная, зарделась, не расслышав иронии.
И Феликс рассказал мне, как она плакала, как жаловалась ему, что я к ней на самом деле глубоко равнодушен и что она нисколько мне неинтересна. Оказывается, где-то в середине дневника были пустыми две страницы: слиплись, она их в свое время перелистнула, и остался там пробел, целый разворот. Отдавая мне дневник, она написала на этом развороте: «Слава, напиши здесь что-нибудь для меня И, конечно же, я не увидел этого призыва...
— Ну что, съел? — сказал Феликс.
— Надо узнать адрес ее тетки, я съезжу к ней! — Я был пристыжен, уничтожен, раздавлен.
— Конечно, что тебе стоит слетать в Ташкент! Хоть и далеко, и дорого, и билетов нет, это всё не для тебя проблемы. И даже то, что придется бросить стройотряд и товарищей — а, мелочи, ведь ты — единичен, ты исключение! ...Ладно, не сердись, Славка! Старик не даст адреса.
Феликс был прав. Но мы были уже враги. Теперь я понимал, почему мы прежде мирно разошлись и целый год не виделись. Хотя еще не мог бы этого толком объяснить.
Пришел я домой и жду: кто же появится первый? Если отец, то что я ему скажу? И как я на него буду смотреть?
Но вот поспешные каблучки, вот ключ в двери — успела! Так в сказке спасение подоспевает в последнюю минуту. Набрасываются рубашки из крапивы на лебедей, и они превращаются в добрых молодцев. Только вот одного рукава не хватило, осталось одно белое крыло.
И едва она прыг в тапки, нырь в халат, еще запыхавшаяся! — отец на пороге.
Она — как ни в чем не бывало: «Привет!» — будто часа три уж как дома. И не говорит, что в гостях была.
Я как забился в свою комнату, так и носа не показываю. Я не хотел встречаться с матерью, а она искала моего взгляда. Я не мог дать ей сейчас того успокоения, того прощения, которого она ждала.
Я слышал их разговор — собственно, говорил один отец. Он, ни о чем не подозревая, бойко рассуждал:
—...старость потеряла все. Прошли те времена, когда нам нужен был ее опыт. Экономически, технически и политически все, что годилось вчера, сегодня — смерть. Когда я учился в техникуме и пришел на практику на завод, я там огляделся и