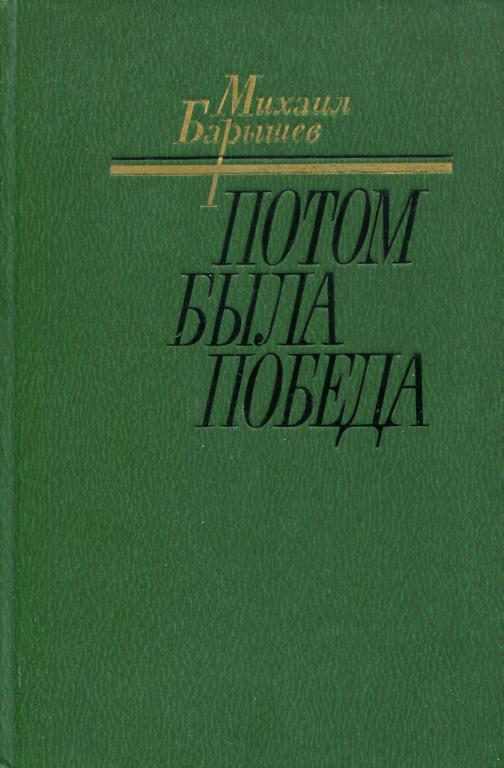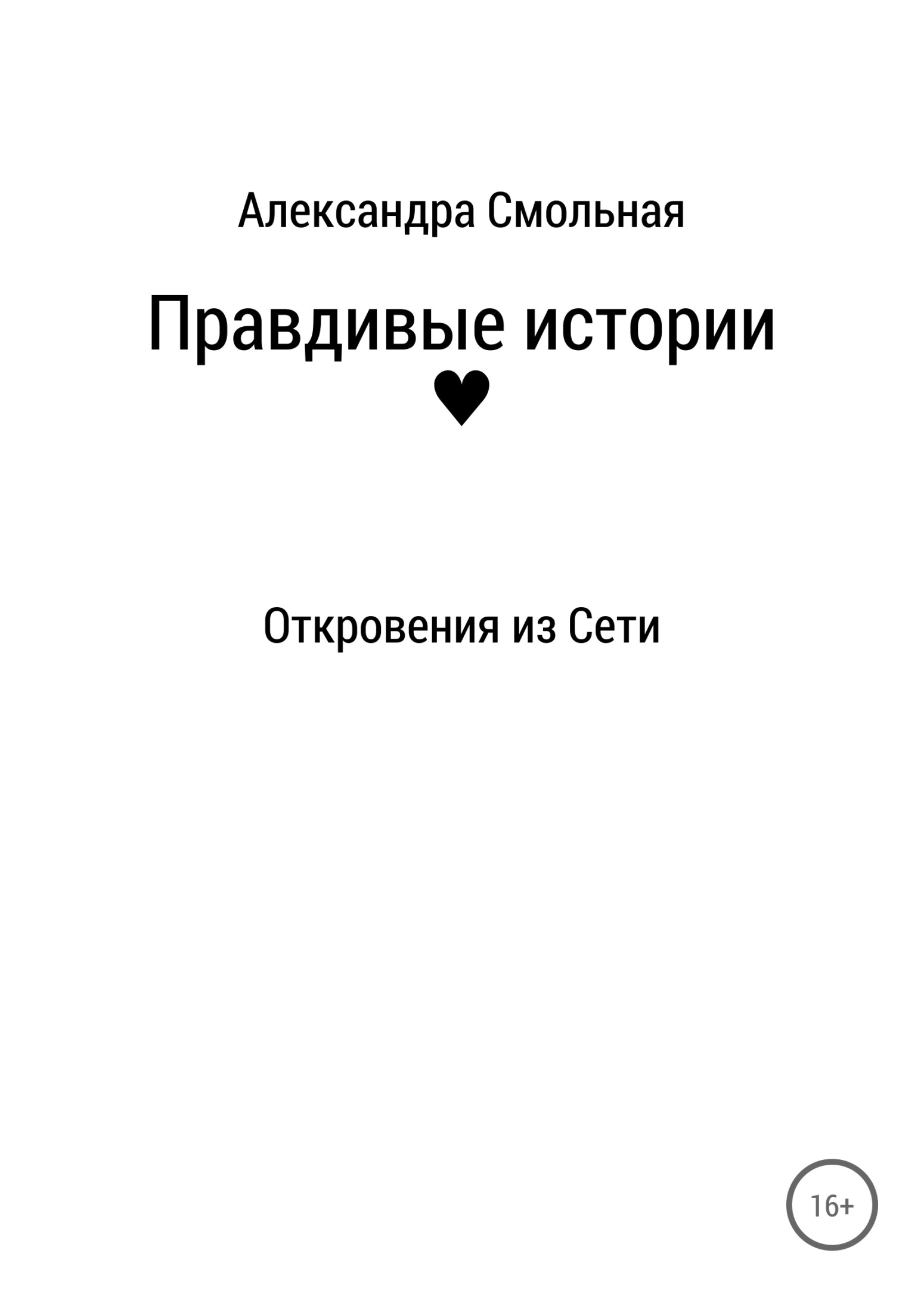Т. Набатникова
ДАР ИЗОРЫ
Рассказы, повесть
РАССКАЗЫ
ДВЕ ПОРОДЫ
Жили в простоте, праздников не пропускали; на праздниках всё по-заведенному: вначале веселились все, потом мужья становились всё веселее, а жены всё тревожнее, мужья напивались и решительно не хотели (потом и физически не могли) покинуть место веселья, а жены их оттаскивали от стола: дома скотина не кормлена и печь не топлена. Плюнув, уходили к скотине одни, а мужья безраздельно отдавались остатку счастья.
Тетя Зоя моя в этих сатурналиях была в той половине, что не расстается с весельем раньше, чем кончатся напитки. Она плясала, изобретала сцены с переодеваниями, на грани непристойности, такие же пела частушки, и женщины поглядывали на нее косо. Была к тому же опасна: крепче и свежее, с огнем в глазах.
Моя мама тайно недолюбливала ее, свою золовку. Само тети Зоино существование было враждебно для маминой породы — из инстинкта сохранения вида — как для муравьев существование жуков, поедающих муравьиные яйца. Для мамы священными были гнездо и потомство. Тетя Зоя была из женщин деятельных, дерзких, взломавших скорлупу канонов, а значит, разорительница гнезд.
Меня же с детства к ней влекло; свойства мира интересовали меня не с точки зрения, как в нем безвредно выжить, а — как бы СДЕЛАТЬ в нем чего-нибудь; миропреобразовательный зуд искал примера и опыта не там, где самки мирно высиживают потомство.
Итак, веселье — до окончания напитков. Вместо «надо», которое включается у женщин, как заслонка ограничителя в карбюраторе, здесь без удержу «хочу». Но — чудом — скотина все же была накормлена и подоена, а наутро тетя Зоя выходила в рейс. Тогда еще не было чутких приборов проверки на трезвость, а работала она шофером. На автобусе. Это значит, был у нее первый класс. А как иначе, если уж тете Зое быть шофером, так первого класса.
В родительском альбоме фотография: юная тетя Зоя в белом берете набекрень. Мама не могла спокойно выносить это и годы спустя: тетя Зоя отдала в обмен за этот беретик настоящую бесценную пуховую шаль. Конечно, безумие: пуховую шаль за пустяковый беретик. Но я это понимала. Очень. А вслух не могла сказать: мама начинала сильно волноваться, обнаруживая во мне опасные задатки той, второй моей породы — «ефимкиной», говорила мама, ругая меня или брата. Все хорошее в нас было, понятно, от мамы, а за все плохое отвечал отец или дед Ефимка.
Ведь две породы человек в себе соединяет.
Тетя Зоя была похожа на свою родню, и жесты ее, повадки и черты для мамы были ненавистны. Как ненавистным может быть только муж.
Я подрастала, познавая белый свет, и со временем уж и сама с трудом переносила тетку — так мне ее черты и внешности, и характера напоминали те, что причинили мне больше всего горя.
Хуже того, и в себе самой я с ужасом обнаруживала те же черты. И смотрела на тетку как на собственный приговор: участь, на которую и я обречена с годами. Ведь она плохо кончила, тетя Зоя. Как и мой отец. Как и, продолжим ряд, видно, мне на роду написано.
Погибает человек от того, что долго приносило ему радость. Эта радость потом забирает в расплату его самого.
По частям. Утонул в реке по недосмотру младший ее сыночек. А старший, умненький такой, красивенький, послушный, когда подрос до девятого класса, связался с дурной компанией, попался на воровстве. Это уж они в город перебрались. Как тетя Зоя выбегала со двора навстречу нашему мотоциклу (братик любимый приехал!) — нет, не гордая больше, сдалась, по-бабьи простирала руки, чтоб и радость показать и — не добежав, горестно запричитала, завыла, братику передавая издали беду свою неподъемную, сыночек-то у нее, ох, в коло-о-онии!..
И сыночек потом плохо кончил, как ни старался выбраться, в институте учился, в люди вышел — нет, всё же кончил он плохо, и всё тут, пропащая уж такая порода.
Дядя Леня, его отец, так прямо и говорил жене своей, тете Зое: такая-сякая твоя порода, ну уж и она за словом в карман не лезла. Породы-то они были схожей, в юности шоферили вместе, синеглазый статный красавец, пара что надо, и пили душа в душу, а под старость вдруг не только питаться стали отдельно, подозревая один другого в воровстве (дядя Леня так свой холодильник обматывал цепью и замыкал амбарным замком), но и корили друг друга — чем? — пьянством! Не говоря уж про «породу». Женскую половину семьи дядя Леня называл «бригадой б...» еще тогда, когда дочки были маленькие и только моргали несмышлеными своими голубыми, в отца, прелестными глазами. Выросли, и всё сбылось: порода. Мы так его и звали Бригадиром.
Но самая большая беда из тех, что обрушились на него к старости (когда не было больше кудрявого чуба, искристого взгляда), была не та, что старший сын спился и изгнан со всех должностей, и не та, что дочки ничему не выучились и жили с мужьями в синяках и раздорах, а вот какая грянула беда — и можно ли снести ее в шестьдесят лет, и можно ли простить такую беду виновнице ее, жене своей: то, что вышла она за него не девушкой, нет. Вот.
Ну как тут было мне не восхититься теткой лишний раз! Ведь надо знать, что такое: родиться в девятнадцатом году в деревне, еще церковь высилась, еще в приходской школе учились, в правилах держали строгих, и, чай, знала Зоя на горьких примерах, что подол надо держать крепко. А примеры всегда под рукой (иногда кажется, для того они и были) — один-два на деревню, когда девку настигал позор, приносила она в подоле, и потом уж была у нее одна дорога, на другую бы никто и не пустил: она требовалась обществу именно на этой. В любой деревне есть один-два дурачка и одна-две потаскушки — как по штатному расписанию. Социальная необходимость такая. Чтоб всякий прочий мужик чувствовал преобладание своего ума, а всякая прочая баба понимала, до чего же она порядочная.
Чай, знала Зоя, на что шла.
Ведь не глупее же она была