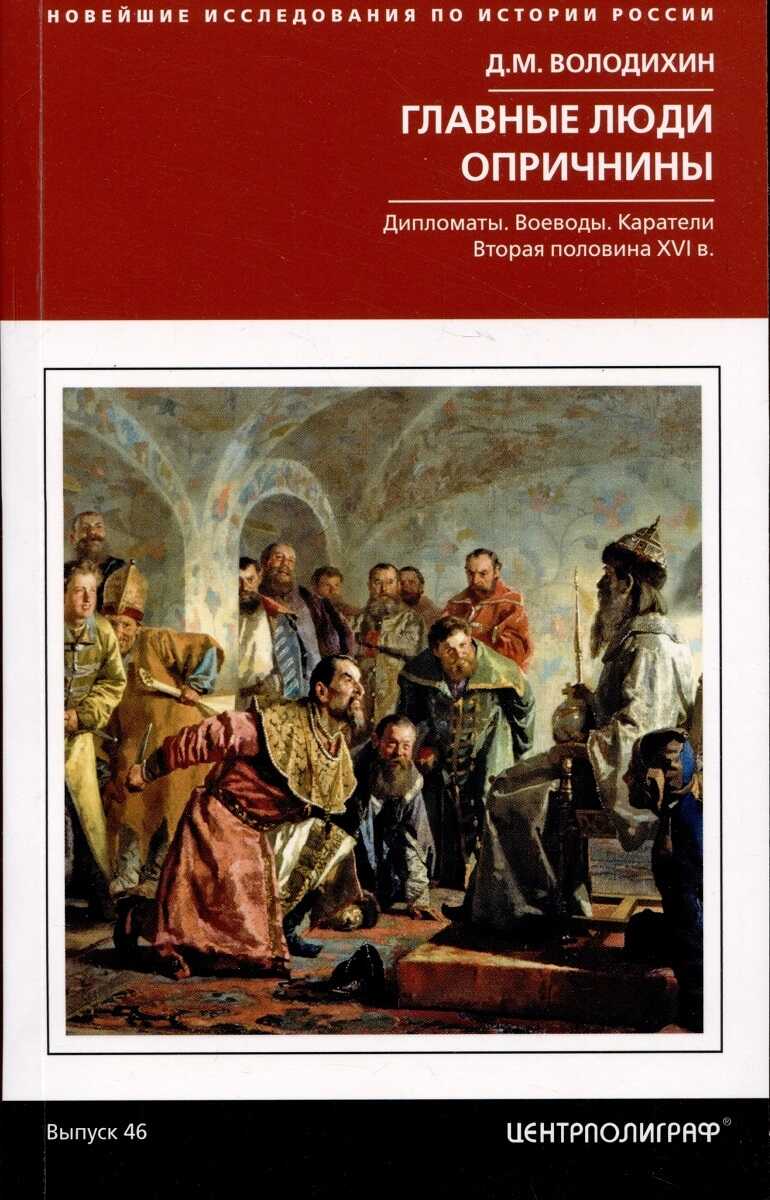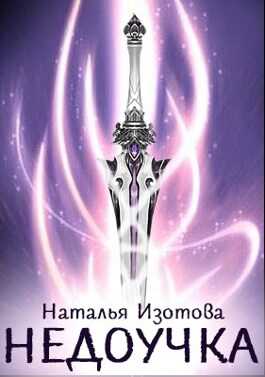с голоду помрут.
Хаим-Бериш уже готов от всех радостей и почестей отказаться, которых ему наобещали, лишь бы в город пустили, к дому и лавке. Ничего ему не надо, хоть бы при своем остаться.
Однако с правителями тяжело дело иметь. Они тебе понапишут, что в голову взбредет, а ты им ни слова ответить не можешь.
«Нет уж, лучше с ними не связываться!» — злится Хаим-Бериш.
А в ответ — пушечные залпы. Он уже выучил этот язык, только не знает, который из правителей с ним разговор ведет: немецкий, русский или австрийский.
И с тремя оберегами в карманах во весь дух удирает в ночную тьму.
1914
Критик
В газете, где Борис Голдин работает уже несколько лет, он отвечает за театральную критику. Но это не значит, что он свободен от другой работы, которой газета требует от сотрудников с приличным окладом. Если в еврейском квартале распоясались гангстеры, Голдин кладет в карман заряженный револьвер и отправляется по злачным местам, где узнает такие новости, которых другой газете в жизни не раздобыть, разве что очень повезет. Если от миллионера сбежала жена, Голдин обязан первым уведомить об этом читателей своей газеты, да еще и подробно описать, звездное небо было в ту ночь или облачное. Если еврейка мыла окно и, не дай бог, вывихнула руку и попала в больницу, Голдин должен представить газете полный отчет, сообщить, какой сустав пострадал, сколько у женщины детей, давно ли она в Америке, вдова или разведенная.
Голдин не отказывается от такой работы, но она ему не нравится. Обычно люди не любят то, к чему их принуждают.
Зато свою рубрику театральной критики он обожает. Объявления на последней странице, где и что идет, — это тоже его работа, но раз в неделю Борис пишет длинные критические статьи, как играли актеры и, главное, что представляет собой сама пьеса, хорошая или так, бульварщина.
Все его статьи подписаны полным именем, это очень престижно. Ведь многие его коллеги пишут только короткие заметки или пересказывают статьи из других газет, поэтому печатаются без подписи.
Несмотря на престижную должность театрального критика, Борис ведет себя с коллегами довольно демократично, но все же иногда не может удержаться, чтобы не показать своего превосходства: ведь он на дружеской ноге со всеми служителями Мельпомены от кассиров до звезд обоего пола и в театре пользуется, если можно так выразиться, неограниченной свободой. Его сажают на любое место. Если бы он захотел сидеть в оркестре, среди музыкантов, его бы и туда пустили. Нужно в ложу — пожалуйста, а когда он приходит в театр один, без дамы, и говорит, что все места ему надоели и он хочет смотреть пьесу, стоя в ложе за спиной тех, кто там сидит, ему тоже разрешают, хоть это и незаконно. А он иногда выражает такое желание: пусть все видят, что он в театре свой человек и может даже стоять, если хочет.
Статьи Голдин писал сразу, придя домой из театра. Когда опускался занавес, он заглядывал за кулисы высказать свое мнение обеим звездам — «ему» и «ей», после чего отправлялся домой в прекрасном настроении, исполненный любви и жалости ко всем живым созданиям, включая даже автора пьесы, хотя тот на самом деле заслуживал хорошей порки. Но Голдин не только щадил его, а даже возносил до небес, не скупился на похвалы и ставил в один ряд с кем-нибудь из великих английских драматургов, разумеется уже умерших.
Иногда Голдину очень хотелось поругать и актеров, и автора. По природе Борис был честен, редко позволял себе даже малейшую ложь, но едва он выводил заголовок «В театре», как сразу становился другим человеком и уже просто не мог написать худого слова ни о пьесе, ни об артистах.
И вдруг он заметил, что артисты и драматурги перестали его уважать. Наверно, они сами хотят, чтобы их немножко поругали. Он понял это, когда разговаривал с автором драмы «Убитые миры». Было очень сложно определить возраст этого высокого, худого человека с маленькими глазками, и поэтому он казался молодым старичком.
— Как вам моя последняя статья о вашей пьесе? — спросил его Голдин.
— В целом неплохо, — ответил драматург, — но вы там слегка перегибаете. Публику настораживает, когда все слишком хорошо. Не повредит, если вы намекнете… Понимаете?
И «звезды» в последнее время начали относиться к нему с холодком. Борис уже забыл, когда артист угощал его сигарой. Голдину сигара как собаке пятая нога, он сигареты курит, а от сигар у него с первой затяжки голова кружится, но сигара — это признак, что с ним считаются. И примадонна стала с ним явно холодней. Почти не улыбается при встрече, и ее рукопожатие совсем не то, что раньше. Бросит пару слов и тут же пытается от него отделаться, даже не извинившись за свое неглиже, чего прежде не бывало.
А сколько он ее нахваливал! С Эстер-Рохл Каминской[139]сравнивал, с Сарой Бернар и другими ярчайшими звездами мировой сцены. Теперь Борис ясно понял, что переборщил с похвалами. Вот живой пример, мистер Путерман, критик из другой газеты. В каждой статье издевается над актерами, пишет не стесняясь, что театр превратился в балаган, где только пляшут да кривляются, но именно он, этот Путерман, у театральной братии в любимчиках. С примадонной под ручку ходит, она его дружески по щеке похлопывает, и с драматургом — не разлей вода.
И Голдин решает, что пора уже начинать говорить правду. Пора вернуть себе прежнюю репутацию. А тут, на его счастье, новая пьеса, о которой надо писать статью, оказалась такой, что ее сам бог велел в клочья порвать… Голдин садится за письменный стол и потирает руки, как человек, приступающий к хорошему, важному делу.
1915
После оперы
Сестры пришли из оперы очень довольные, в превосходном настроении. Младшая, Белла, не могла скрыть своих чувств и с порога бросилась к маме, которая уже постелила дочерям-кормилицам постели и приготовила скромный ужин:
— Мамочка! Как он пел!
— Правда хорошо пел? — с улыбкой спросила мать у старшей дочери.
— О, йес! Прекрасно! — Старшая, Фрида, держалась спокойнее, но ей явно тоже очень понравилось.
— Вот и замечательно! — обрадовалась мать. — А то ведь билеты такие дорогие…
— И вовсе не дорогие, мама! — запротестовала Белла. — Я бы весь свой вейджес[140] отдала, чтобы один раз его увидеть… Вернее, один раз услышать…
— Не выкручивайся! — засмеялась Фрида. — Ты хотела сказать именно «увидеть». Мама, она