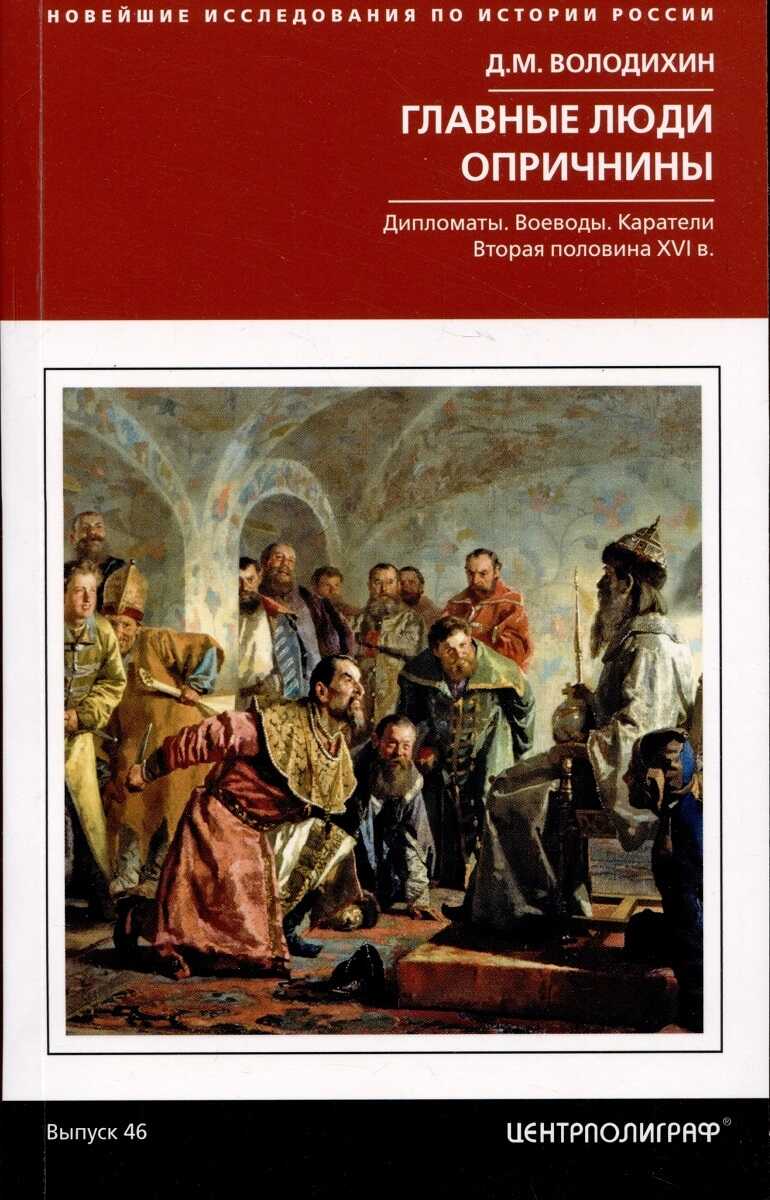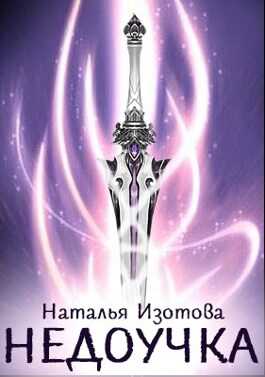но это не осел, а тот самый… Что ж, цензор верно понял его мысль.
Шейнман как на крыльях полетел к друзьям-поэтам, которые тоже не могли напечататься, а его считали своим атаманом, предводителем и проводником. Ему не терпелось поделиться радостной новостью:
— Редактор не может мою поэму напечатать!
Гонимые поэты хотели выразить своему вождю соболезнования, но заметили, что он так и светится от радости.
— Я вижу, — сказал один, — вы не принимаете это близко к сердцу, пан Шейнман.
— Наоборот, меня это радует. Я счастлив! Я горжусь собой! — И, переведя дух, объяснил: — Моя поэма — шедевр! Размах мысли, полет фантазии! Это аллегория! Она произвела бы сенсацию, редактора сослали бы в Сибирь, а меня сгноили в тюрьме!
Гонимые поэты слушали его с ужасом и удивлением. Самый гонимый, которому из редакции ни разу даже письма не прислали, побелел как мел, встал и чуть слышно спросил:
— Что же в ней такого?
— Есть там кое-что, — улыбнулся Шейнман. — Одна мелочь — осел. Осел!
— И что? — не поняли поэты.
— Вот цензор к нему и прицепился. Догадался, что я имею в виду, понятно? И не пропускает в печать.
Поэтов охватила зависть.
И ведь было чему завидовать! Цензор не пропустил — им такое счастье и во сне не снилось. Их не печатают просто потому, что они пишут слабо. А Шейнмана, конечно, печатали бы, но его произведения слишком остры, смелы, опасны.
А он писал одну за другой поэмы в прозе, приносил редактору и, получив обратно, улыбался:
— Опять цензор не пропустил. Слишком злободневно!
Ходил и, довольный, хвастался:
— Я не могу абы как сочинять, у меня все со смыслом. Вот, например, последняя вещица, казалось бы, невинная сказка про птичку. Думаете, цензор не догадался, что под птичкой я подразумеваю свободу? Еще как догадался! Передал через редактора, чтобы я был осторожнее, не только напечатать не пытался, но даже рукопись уничтожил. Видно, добра мне желает. Знаете, — все больше воодушевлялся Шейнман, он благородный человек, этот цензор. Спасибо ему за это…
*
Но вдруг народу даровали конституцию, и величию Шейнмана пришел конец.
Цензор вмиг потерял свою должность, а вместе с ним Шейнман потерял возможность оставаться злободневным поэтом. Если разрешено писать что угодно, какой смысл себя обманывать?
И он отдал свое перо гонимым поэтам, а сам уехал в Америку деньги зарабатывать.
Но оказалось, от судьбы не уйдешь. В последнее время Шейнман носится с великими идеями, которые пытается воплотить в нерифмованных поэмах. Надо только дождаться, чтобы в Америке появились цензоры, как раньше там.
Тогда он покажет здешним редакциям, на что он способен.
Что ж, будем надеяться, что в Америке создадутся подходящие условия и Шейнман опять станет поэтом. Очень жаль, если такой талантище пропадет.
1917
Три оберега
Когда началась война, Хаим-Бериш, богатый хозяин из Польши, сразу смекнул, что времена наступают тяжелые. Теперь ему долги не вернут, но это ерунда, даже смешно. Он сам должен людям куда больше, чем они ему. Не заплатят — ну, так и он не заплатит, в итоге даже в выигрыше останется. Плохо только, что в лавках теперь ни хлеба, ни крупы в кредит не дают.
Зато Хаим-Бериш получил моральную поддержку аж от самого царя. У него от царя бумага, где написано черным по белому, причем на идише, что если он, Хаим-Бериш, будет истинным патриотом, то получит все права и сможет проживать где хочет и делать что хочет, отдавать детей в школу и ездить на все ярмарки, даже в Нижний…
Это напечатанное по-еврейски письмо от самого царя Хаим-Бериш бережет пуще глаза. Носит в правом кармане брюк, где еще до войны носил кошелек. Ведь это не просто письмо, а, можно сказать, вексель, причем не лишь бы какой, а царский.
— Лучше денег!
И хотя день ото дня все хуже и хуже, Хаим-Бериш с векселем в кармане не унывает и, когда говорит со стариками (молодых-то всех на войну забрали!), не забывает с гордостью добавить:
— Да, пока что все плохо, но зато потом, потом… Вы ж понимаете… Сам царь пишет…
А что потом? Если русские проиграют войну и победит Франц Иосиф, то этот вексель не вексель и был.
И тут Господь совершает чудо: Франц Иосиф тоже присылает Хаиму-Беришу письмо, напечатанное на чистейшем идише, и такое теплое, даже лучше, чем от царя:
«Если ты, Хаим-Бериш, будешь добр к австрийцам, то я, Франц Иосиф, тебя не забуду. Получишь в свое распоряжение все, чем богата моя страна, — и Буковину, и Галицию, и Моравию, и Богемию. Сможешь делать что душа пожелает. Только будь человеком, выполняй что прикажут, а уж я-то о тебе позабочусь!»
Опять повеселел Хаим-Бериш. Спрятал бумажку в другой карман: если к царскому письму положить, то вроде как шатнез[138] получится. Не годится!
Два монарха обещают Хаиму-Беришу сладкую жизнь, но пока хуже некуда! Вся торговля прахом пошла, того и гляди голодать придется.
Но Бог милостив, и, когда стало совсем худо, приходит третье письмо, сразу на идише и на святом языке, от кайзера Вильгельма!
И Вильгельм сулит Хаиму-Беришу больше, чем царь и Франц Иосиф, вместе взятые, не будь рядом помянуты.
Золотые горы обещает, как только Польшу захватит.
Лишь бы Хаим-Бериш ему не мешал, а уж он-то знает, как за это отблагодарить.
Дивится Хаим-Бериш и думает: «Господи! Чем я заслужил такую милость, что три монарха, да еще каких — три туза Европы! — у меня помощи просят?»
Но, наверно, они знают, что делают. Не стали бы правители просто так к нему обращаться.
Третье письмо, от Вильгельма, Хаим-Бериш спрятал во внутренний карман.
В трех карманах бумаги носит, в каждом по царскому письму.
Кажется, вот-вот все наладится. Должен же кто-нибудь наконец победить. Но не тут-то было!
Приходят в город русские и начинают крушить все подряд. Полон дом солдатни, дочек надо в подвале прятать. Что из съестного найдут, тут же сожрут.
Немец приходит — еще не легче! Прежде чем занять город, он любит попугать немножко, из пушек пострелять. Вот и беги из города без оглядки!
Бродит Хаим-Бериш где-то в поле, ощупывает карманы, не потерял ли письма от трех правителей, а что делать, знать не знает.
С одной стороны, приятно — письма от величайших правителей в карманах лежат!
С другой стороны, в поле холодно, а от дома, наверно, камня на камне не осталось. Пока цари-короли свои обещания выполнят, Хаим-Бериш тут замерзнет, а жена и дети