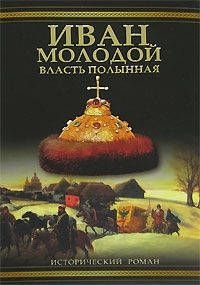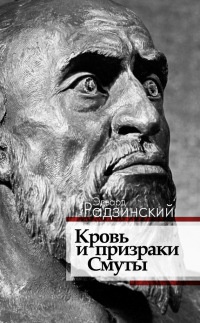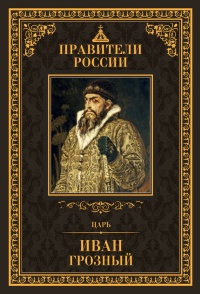князь. Варвара благодарно кивнула и пригласила гостя за стол. Сели по разные стороны.
Вот о ком она думала все эти годы, кого желала, о ком плакала! И не могла думать о нем, ибо до боли было обидно, что все так сложилось! Не так должно было быть, не так! Она должна была быть его женой, а не сидеть по другую сторону стола во вдовьем платке! И, казалось, не дано им больше увидеться никогда. А ныне вот сидит рядом, и она, слушая его рассказы о службе, пожирает его глазами, жадно, с тоской.
Говорили и о хозяйстве, и о последних страшных новостях в государстве, о родне, все было чинно и важно, хотя обоим было понятно, что все это ни к чему. И много было еще пустых разговоров и ненужных слов, прежде чем они бросились в объятия друг другу.
– Родной мой! – задыхаясь от счастья, шептала Варвара и прижималась к нему все сильнее. – Все это время… Только ты…
– Я все эти годы… с полками по городам, – отвечал он сбивчиво от волнения, – и сам только о тебе…
Счастливые, они обнимались и целовались, не боясь, что кто-то из слуг заметит и начнет сеять слухи, мол, недавно вдова, а уже с другим милуется! Им было все равно.
– Будь моей женой! Будь! – настаивал князь Голицын, а она, улыбаясь, повторяла:
– Васенька… Мой!
– Пройдет должное время – пришлю сватов. Все будет как подобает. Как хотели когда-то. Будь моей, Варенька!
Спустя год они поженятся, и князь Голицын воспитает детей Басманова как собственных сыновей, а Варвара родит князю еще трех мальчиков, которым суждено будет стать героями другой эпохи, столь далекой пока от этого зимнего вечера, когда в крепких и нежных объятиях слились наконец два любящих сердца.
Часть третья
Смертная чаша
Глава 1
1571 год. Крым
Серое бурное море с шумом билось волнами о берег. Небо, тяжелое, низкое, тянулось за окоем и, казалось, сливалось с бескрайним морем воедино. Чайки с криком кружили над водой, во множестве усаживаясь на камнях. Холодный ветер нес соленый запах моря и вонь выброшенных на берег водорослей и морской травы.
Мефодий, глядя на разбивающиеся о прибрежные камни волны, думал о своей душе, которая так же бьется и разбивается, ибо уже десять лет не может найти покой. Он щурился и глубоко вдыхал морской воздух. Белесо-седые волосы его, все еще длинные и пышные, трепал ветер, путал окладистую бороду, забирался под тонкий изношенный татарский кафтан. Чайки с криками проносились над его головой. Он поднял глаза кверху.
– Ежели сие свершится, обрету ли я желанный покой? – спрашивал он то ли себя, то ли кого-то наверху…
Кажется, уже целая вечность прошла с того дня, когда татары вели его в полоне. Всадники медленно вели лохматых коней, со всех сторон обступая пленников, дабы никто не смог убежать.
– Шагай! – кричали татары, следившие за ними, и стегали плетьми.
Мефодий шагал со связанными за спиной руками, наступал босыми ногами на колючую высохшую степную траву, вдыхал ее горький запах. Оглянулся – бескрайнее мертвое поле простиралось теперь всюду, со всех сторон, и не видно русских лесов. Замечал, как татары пристально глядят на него – ведал, что старых, больных и немощных они не щадили, убивали тотчас, оставляя трупы на съедение степным птицам и зверям. После изнурительного перехода пленных построили в ряд, и татары, громко переговариваясь наперебой, ощупывали, осматривали невольников. Тех, кто с трудом стоял на ногах или кого поддерживали близкие, резали на месте. Долго плосколицый татарин глядел на Мефодия, и старик приложил все силы, дабы твердо стоять на ногах и не дать татарам усомниться в том, что он достоин жить – в плену, но жить! Татарин, видать, посчитал его довольно крепким, отошел дальше и тут же разрубил стоявшего рядом мальчишку – Мефодий, закрыв глаза, почувствовал, как с правой стороны его обдало теплым и вязким.
– Шагай! – прозвучало грозно над головами понурых невольников, свистнула плеть, и пошли, словно скот. Долго еще шли, мучила жажда, а степь все тянулась дальше, и не было видно ни одной речушки. И вот какая-то баба рухнула в траву ничком. Татарин со сверкающей на солнце лысой головой пнул ее:
– Встань! Встань!
Ударил ногой под ребра. Баба на руках попыталась подняться, но снова упала лицом в жухлую траву.
– Мамо! Мамо! – послышался детский писк откуда-то сзади. Мефодий не отводил взгляда от женщины, из последних сил пытавшейся выжить, даже под страшными ударами татарина. Долго ждать он не стал, вынул из сапога нож и нагнулся над ней. Мефодий, стиснув зубы, отвернулся и закрыл глаза. До уха тут же донеслись мучительный хрип и бульканье крови. Татарин же обтер об траву нож и пошел дальше, словно и не слышал истошного детского плача за спиной…
В городах, больше похожих на аулы, пахло скотом, дымом и нечистотами, лаяли и огрызались псы, маленькие татарчата, заливисто смеясь, бросались в пленных камнями. Здесь их, изможденных тяжелейшим переходом, раздевали донага и тщательно рассматривали, а после разделяли на две группы. Одним суждено было жить в роскоши и хорошо питаться, дабы потом можно было дорого их продать для развлечений заморских господ, другим суждено стать «тягловым скотом» и умереть от непосильной работы. А там – куда судьба занесет: в далекий Иран, в Турцию, а может, придется остаться здесь в услужении какого-нибудь мурзы. Два татарина, богато одетые, поглядев на Мефодия, долго спорили о чем-то, затем его отпихнули к будущим рабам.
На шеи им надевали колодки, привязывали друг к другу и, как скот, выводили на переполненную гомонящим людом торговую площадь. Солнце нещадно жарило, мухи садились на беспомощных рабов, нагло ползали по ним. Отовсюду слышна татарская речь. Мефодий сидел, опустив голову. Он не ел уже несколько дней, пил лишь из лужи, что была в яме, где держали невольников, перед глазами плыло. Он лишь чувствовал, как кто-то, проходя мимо, хватал его грубо за бороду и поднимал лицо вверх. Порой сзади били батогами, дабы пленные под палящим солнцем не лишались сознания.
Вот трех уже купили турки, еще двух старики в белоснежных тюрбанах. Мефодия долго осматривал чернобородый татарин в богатых одеждах, а когда несчастному приказали встать, то он едва смог это сделать, а сзади торговцы подбивали его батогами, и он, стиснув зубы, терпел.
– У него сильные руки, – едва различил сказанное Мефодий, – он будет обрабатывать кожу!
Видать, татары, взявшие его в плен, передумали