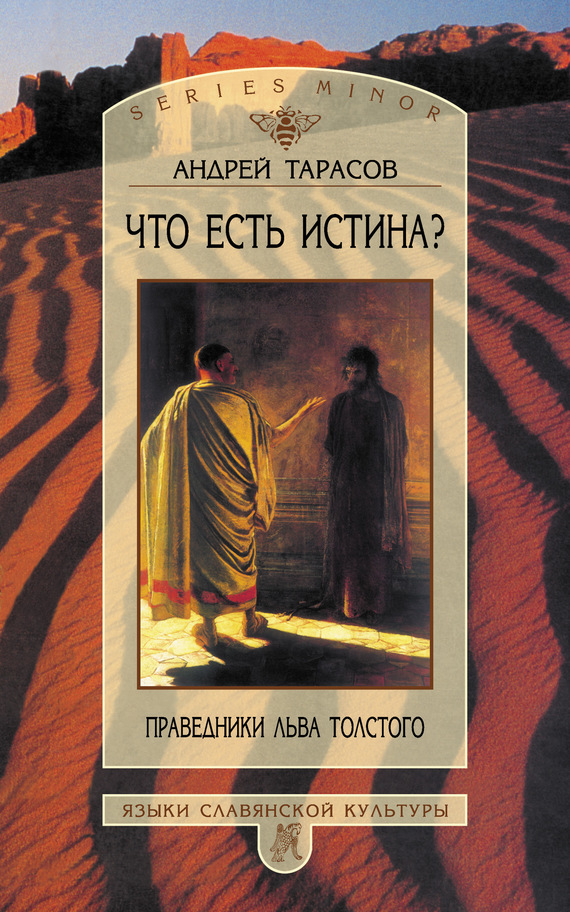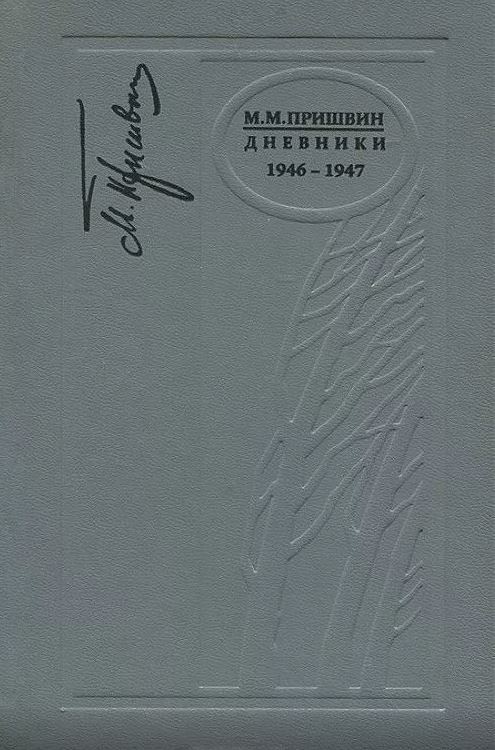Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 109
этом жизнь и начнешь работу над своей душой, радоваться на то, что каждый день, нынче, поднял большую, чем вчера, тяжесть, лучше перенес соблазн. Только любоваться нельзя, да и не на что, потому что всегда остается так много недоделанного. (9.11.1906 // <там же>)
На следующий день он снова садится за книжечку дневника. Проверим сейчас, как мы научились его читать. В короткой записи есть одна прозрачная шифровка. Явно разгадываемая, но важно первое впечатление, первый смысл, который вы придадите. Нужен опережающий комментарий: в издательстве «Посредник» должна была выйти статья Толстого на актуальные темы, еще не кончилась русская революция, он пишет «О значении русской революции». Он много думает в это время о русской революции:
Удивительно, что люди не видят того, что и внутренняя глубокая причина и последствия совершающейся теперь в России революции не могут быть те же, как причины и последствия революции, бывшей больше ста лет тому назад. (Там же)
Ему нравится статья о революции в только что пришедшем номере японского журнала; в индийском журнале он с интересом читает о желтой и белой цивилизации (дневник 21.11.1906). Но статья о революции самого Толстого в ожидаемое время не вышла. Дневниковая запись:
Сегодня 10 ноября. Было досадно, что не вышла статья. Вот и не поднял гирю.
Должен признаться, что сам при беглом чтении принял поднятие гири за ожидавшийся выход статьи.
Разве Толстой не общепризнанный борец? Разве не прилагает усилия для своей проповеди? Разве не достижение ему мировой успех проповеди? Нет, это странная борьба, когда за недовольство маленьким срывом в этой борьбе он себя бранит.
Его сожаление, не поднял гирю, – гирю выхода в общее, гераклитовское. Снимаются перегородки, отделяющие его от всех.
[…] Все заблуждения философов – от построений объективных. А несомненно только субъективное, не субъект Ивана, Петра, а субъективное общечеловеческое, познаваемое не одним разумом, но разумом и чувством – сознанием. (18.11.1906 // <там же>)
[…] По мере старения всё менее и менее чувствуешь реальность людей. В детстве все люди, которых я знал, были, казалось, неизменны, такие, какие были, но по мере движения жизни они всё более и более изменяющиеся духовные проявления. И теперь для меня маленькая Танечка есть уже не определенное существо, а изменяющаяся форма проявления духа. (14.1.1907 // <ПСС, т. 56>)
Но вот тогда вопрос: почему он не бранит себя за тщеславие, когда стыдится с мужиками, что не может наравне с ними косить. Тут остался тем же мальчишкой, который учился ездить на коньках?
Думаю, соревнование на косьбе чистое, безупречное. Успех, мировая известность – темны. Их еще надо очистить. И похоже, что он очищается не от славы, а очищает славу.
Была неприятна неожиданная и неприятная брань за мое письмо о том, что у меня нет собственности. Было обидное чувство, и, удивительное дело, это прямо было то самое, что мне было нужно: освобождение от славы людской. Чувствую большой шаг в этом направлении. Всё чаще и чаще испытываю какой-то особенный восторг, радость существования. Да, только освободиться, как я освобождаюсь теперь, от соблазнов: гнева, блуда, богатства, отчасти сластолюбия и, главное, славы людской, и как вдруг разжигается внутренний свет. Особенно радостно. (10.10.1907 // <там же>)
Этой особенной радости без славы бы не было. Что он сделал со своей славой, как обошелся, что она стала чистой радостью ему?
II-10
(17.4.2001)
Теперь спросим, чего, в конце концов, собственно Толстому надо, идет ли речь о том, чтобы изменить мир. Тем временем мы договорились до того, что по-честному изменить мир нельзя, он такой какой есть. Толстой изменяет себя, заставляет себя навидеть мир, работает над собой. Если ему удастся с радостью смотреть на всё, то только этим, своим счастливым присутствием, он в том месте, где он стоит, явочным порядком утвердит благополучие.
Но: ведь два смысла изменить мир, переделать мир и сменить свои глаза, не просто разные, а противоположные. Если бы Марксу, в своих «Тезисах о Фейербахе» поставившему задачу «философы до сих пор по-разному объясняли мир, наша задача в том чтобы изменить его», Витгенштейн, живи он в то время, сказал: да, да, надо радикально изменить мир изменением своих глаз, Маркс бы разъярился. В марксистской школе, во франкфуртской школе, особенно у Адорно, ярость на малейшее подозрение идеализма, т. е. замазывания трезвой реалистической картины мира воображением, представлением была пожалуй главным настроением: операции с глазами, глядящими на мир, опасны тем, что не позволят видеть истинного врага и искоренить зло, например дух капитализма, буржуазии.
Допустим, капитализм, буржуазия теперь – всё-таки смена взгляда на собственность вроде бы произошла, т. е. конечно по-настоящему нисколько не произошла и мы продолжаем быть общинными, коммунальными в целом, но смена знамен как-то произошла – допустим, капитализм и буржуазия теперь нам не враги, наоборот. Но зла ведь не стало меньше, как бы не больше, тут и социальная несправедливость, и преступность, и несвобода прессы, и масса зла без названия. Оно требует тоже зоркого, трезвого взгляда и исправления. Кому нужна перемена глаз в толстовскую сторону, в сторону умиления, когда полно первоочередных задач в политике и экологии. Земля явно гибнет. Толстой со своей школой умиления в нас просто не лезет, мы его элементарно не можем вобрать, никак не идет, нисколечко. Прошлый раз сразу после семинара, заговорив о другом, независимо от Толстого о современной ситуации, у нас, <участник семинара> последовательно, разумно, логично изложил всю черноту нашего положения, упадок сил народа, неспособность по-настоящему перенять западную технологию вместе с гуманностью, нежелание строить надежно и с далекими видами, и много что с горькой правдой говорится об этом. Всё было правильно и метко. Но интересно, что за всё время разговора у рассказывавшего всё это явно не было ни малейшего замечания того, что высказывание всех этих печальных вещей для Толстого, которого только что читали и только что цитировали, было бы стыдно. Т. е. на нас с такой настойчивостью давит отчетливое неблагополучие вокруг, что не звучит для нас совсем, например, вот это толстовское:
7 июня 1907. Ясная Поляна. Давно не писал. Прежнее нездоровье прошло, но начинается как будто новое. Нынче очень, очень грустно. Стыдно признаться, но не могу вызвать радости. На душе спокойно, серьезно, но не радостно. Грустно, главное, от того мрака, в котором так упорно живут люди. Озлобление народа, безумная роскошь наша. Горбунова рассказала про ужасный детский разврат
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 109