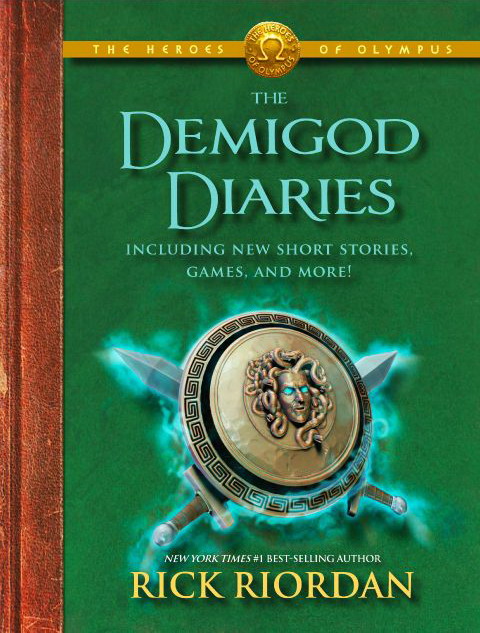когда он делал наброски карандашом, он чертил с такой уверенностью и силой, что карандаш трещал в его руке».
Нет, художник не был нелюдимым затворником, но внутренняя энергия, беспрестанный диалог с самим собой освобождали живописца от необходимости подпитываться суждениями и мнениями других людей. Вспоминали, что Василий Иванович имел обыкновение общаться немного иронично, и многими такая манера воспринималась как насмешка. При этом душевное расположение художника к собеседнику придавало его речам краски «большой поэтической красоты языка и мыслей». В жизни Василия Ивановича случались периоды сближения с талантливыми людьми, но на фоне глубокой всепоглощающей привязанности художника к своим близким такая дружба занимала его не слишком. Собственное искусство и обожаемые дочери – вот главные ориентиры жизни Сурикова, и можно подивиться нежной отеческой заботливости этого крепкого, непоколебимого и на первый взгляд совсем несентиментального человека.
Квартиры, в которых жил и работал Суриков, так бывали малы, что богатырские полотна частенько приходилось писать фрагментарно, скатывая нерабочую в данный момент часть холста в трубку. Удивительно, но единство композиции при этом не страдало. Неприхотливый быт художника бросался в глаза каждому, кому доводилось бывать в доме Василия Ивановича. Скромная обстановка комнаты, куда допускались гости, ограничивалась сундуком, покрытым сибирскими коврами, обеденным столом с «плохонькими» стульями. Стены хозяин не стремился украшать своими произведениями. В углу любимая гитара художника терпеливо ждала прикосновения его пальцев в минуты отдыха от живописных трудов. Большой поклонник Бетховена, самоучка-музыкант Суриков переложил для исполнения на гитаре «Лунную сонату».
Дорогие сердцу художника рисунки, эскизы, этюды, самые любимые из которых он почему-то помечал красным кружком, прятались от посторонних глаз в сундуке. Здесь же хранились предметы народного творчества в основном в виде вышивок, так отменно получавшихся в проворных руках матушки-мастерицы. Как-то у Василия Ивановича побывал великий князь – попечитель одной из картинных галерей. Художник не отказал высокому гостю в знакомстве с заветным содержимым своего знаменитого сундука. Великому князю понравился один из этюдов, помеченных красным кружком, о смысле которого он, конечно, не догадывался. Великий князь выразил желание приобрести приглянувшийся этюд, но художник без стеснения запросил за него невообразимую сумму, рассчитывая, что цена заставит высокого гостя отказаться от своего намерения. Так и случилось, а довольный Суриков вернул этюд, с которым совсем не желал расставаться, в свой надёжный сундук.
Очередное пребывание в родных краях зародило в творческих стремлениях Сурикова тему покорения Сибири Ермаком. Новый замысел завладел вниманием художника полностью, не позволяя думать ни о чём другом. Даже «Степана Разина», давно волновавшего воображение живописца, пришлось отложить на неопределённый срок. Ермак Тимофеевич, его героическое воинство, впрочем, как и сила, противодействующая покорителям Сибири, оказались персонажами чрезвычайно требовательными. Трудно преувеличить эмоциональные и физические затраты художника, взявшегося за воплощение на холсте эпизода героического покорения.
Выносливый, одержимый страстным желанием «всё увидеть, перечувствовать, самому ко всему прикоснуться», Суриков за несколько последующих лет сибирских путешествий прошагал и проехал верхом более трёх тысяч вёрст, чтобы зарисовать места судьбоносного противостояния на берегах Енисея и Иртыша, отыскать стародавние образцы одежды и оружия тех, кто сошёлся в кровавой схватке, зарисовать лица их потомков, сохранивших черты воинственных предков. Но и этого оказалось мало дотошному художнику, он считает своим долгом побывать на Дону, откуда был родом Ермак и откуда начался его завоевательный поход. Очередное лето живописец провёл в обществе донских казаков, где он снова припадал к народным истокам, черпая натурный материал. Кстати, во время пребывания на Дону Сурикову удалось отыскать одну из ветвей своего казачьего рода.
Картина писалась в Москве, и за это время никому из друзей, а тем более посторонним не представился шанс переступить порог творческой лаборатории Сурикова, где он трудился неистово, день за днём. Только однажды, когда уже замаячил финал работы, к художнику заглянул издатель Пётр Кончаловский с юным сыном Петром, увлечённо занимавшимся живописью. Вскоре Суриков с дочерьми нанёс ответный визит в уютный, многоголосый, любимый талантливыми людьми дом Кончаловских. Ольга, ставшая к тому времени энергичной барышней с твёрдым характером, очень походила на отца и лицом и нравом. Елена, напротив, своей уязвимостью напоминала мать и пребывала в тени сестры. Пётр Кончаловский-младший и Ольга в тот памятный вечер обратили друг на друга внимание.
Между тем «Ермак» буквально «задыхался» в тесной для такого большого полотна квартирке художника. Осенью 1894 года ему было предоставлено просторное помещение – зал Исторического музея, но даже здесь Сурикову удавалось сохранять таинство работы над картиной. Вход в зал-мастерскую охранял большой висячий дверной замок.
Одним из первых, кто увидел оконченную картину, стал Михаил Нестеров. Мнение этого умного человека и тонкого художника имело значение для Василия Ивановича, и Суриков удовлетворённо наблюдал, с какой неподдельной заинтересованностью блуждал взор Нестерова по холсту с ещё не просохшими красками.
На 23-ю Передвижную выставку 1895 года «Покорение Сибири Ермаком» явилось торжественно. На обеде передвижников, традиционно устраиваемом после открытия выставок, Василия Ивановича чествовали как победителя, аплодируя его успеху. Некоторым критикам не понравился, правда, мрачноватый колор картины, хотя сюжету он вполне соответствовал. И всё же нужно отметить, что Суриков не слишком учитывал химическую совместимость красок, как это делал, скажем, Василий Поленов, поэтому изначально выбранный цвет на его полотнах не всегда сохранялся. К тому же критики и братья по цеху не раз отмечали неряшливость живописи Сурикова, его широкий грубый мазок, не всегда строгое следование законам перспективы и были склонны объяснять эти вольности профессиональными промахами, что, конечно, не соответствовало реальному положению дел. Прекрасно подготовленный академической школой художник, страстно выплёскивая на огромные холсты мощь своих исторических фантазий, смело приносил художественные каноны в жертву общей выразительности, виртуозно связывая фигуры в сложные, драматически напряжённые композиции.
Как говорил Михаил Нестеров, «Суриков в хорошем и великом, равно как и в несуразном, был самим собой. Был свободен». Ему вторил Александр Бенуа, утверждая, что Василий Иванович творил «единственно охваченный вдохновением, выражая лишь самого себя, не глядя ни на какие теории и принципы». Доводы брюзжащих критиков Василий Иванович отметал столь же непоколебимо, как творил и жил: «Они вот всё пишут, теорию выставляют: делай так-то и так, а теория их вся задним числом пишется. Каждый художник по-своему творит, а они уже из готового выводы делают и теорию сочиняют. Новая сила народится, перевернёт всю их теорию, и критикам опять приходится приспособляться, новую теорию писать. И так без конца».
Время демонстрации «Покорения Сибири Ермаком» совпало с трёхсотлетием изображённого на картине события. В силу этого или отвлечённого от юбилейной даты обстоятельства, но масштабную работу Сурикова приобрела императорская чета. Звание академика, полученное художником в том же, 1895 году открывало ему широкие возможности