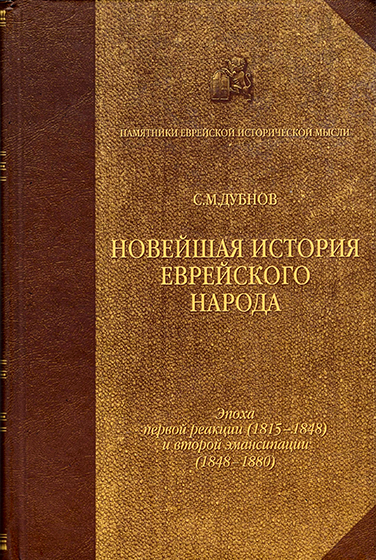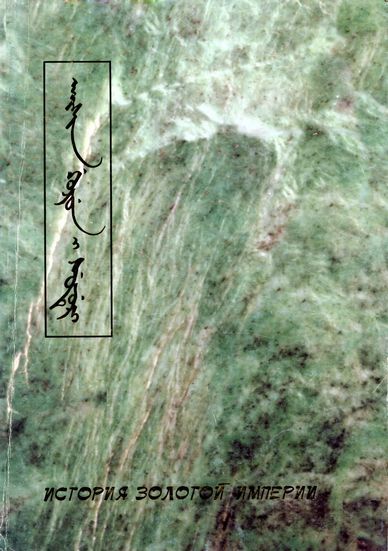не подпускают – тяжелые танки хороши для прорыва и внезапной атаки, но без поддержки пехоты их легко вывести из строя. Они, конечно, видят и понимают наше состояние, но не имеют права идти даже на самый маленький риск. У них есть, конечно, их машины и страшные пушки, но их всего несколько человек и они могут только дожидаться, когда советские части окончательно займут Ченстохову.
Пожилая женщина в черной косынке – она уже давно здесь стоит – рассказывает, что командир соединения подходил к собравшимся, пожал руки подошедшим и на ломаном немецком задал несколько вопросов. Он хотел узнать, есть ли еще немецкие солдаты в Ченстохове. Подошедший мужчина, оказывается, тоже участвовал в этом разговоре, он говорит, что это был не командир, а настоящий командир погиб в том сгоревшем танке. Женщина в косынке возражает – она ничего такого не слышала. В конце концов они приходят к выводу, что каждый из них мог ошибиться – уж очень плохо советский офицер говорил по-немецки.
Хорошо, что я их увидел, наших спасителей с их гигантскими танками, пусть даже на расстоянии. Они для меня уже не анонимы, у них есть лица, я видел их, хоть и издалека. Независимо от того, какую цель преследовало их наступление, был ли это случайный, бессмысленной прорыв, как иногда бывает на войне, или запланированная операция, может быть, им надо было взять какой-нибудь мост через Варту, независимо от того, знали ли они, что поблизости есть концлагеря, независимо ни от чего – это они, эти молодые ребята, спасли жизнь мне и еще пять тысяч человек, которых немцы не успели загнать в скотные вагоны. Это они на своих огромных машинах прорвали линию обороны и ворвались в Ченстохову поблизости от нашего лагеря и спугнули немцев.
Не американцы, которых я представлял в своих мечтах, не англичане, не польское правительство в изгнании в Лондоне – нет, это были молодые советские солдаты. Многие из этих солдат, может быть, и их командир, сгорели заживо в танках, пожертвовали жизнью, чтобы провести эту рискованную операцию, но они спасли нас, тех, кто остался в Хасаге. Они не явились к нам на белых конях, не жали руки собравшимся, не раздавали шоколад, не расспрашивали и не рассказывали. Но эти ребята, которые не хотели вступать с нами в разговоры, даже не хотели принять нашу благодарность, именно они совершили это чудо, на которое мы не решались надеяться. И произошло это в самый последний момент.
Когда через два дня подошла пехота и тыловые подразделения, танкисты заправили свои машины горючим и уехали. Продолжали преследовать отступающую немецкую армию.
Может быть, они спасли еще много пленников из других лагерей.
Когда я возвращаюсь назад в дом по улице Гарибальди, уже двенадцать часов. Саре удалось раздобыть кое-что на обед, стол уже накрыт. Роман где-то у соседей, а Сара говорит мне, что беспокоится за Пинкуса.
Отец сидит на стуле, склонив голову и уставившись на скатерть. Похоже, он ее не видит. Сара говорит, что он просидел так все утро, пока меня не было. Куда я, в конце концов, исчез? Мне тоже становится страшно, я пытаюсь заговорить с ним – он медленно поднимает глаза и произносит: «Да, да, Йоселе». Но не сдвигается с места.
Несколько лет он прожил под неослабевающим прессом, он сделал все, что мог, чтобы спасти свою жену, своих детей, своих помощников, родственников. Он был, как гранитная скала, он всегда казался спокойным, от него исходило ощущение уверенности и безопасности – и мы привыкли, что так и должно быть. Когда пришло спасение, когда огромное напряжение, в котором он жил, чуточку спало – наступила реакция: его охватили безразличие и апатия. Конечно, много еще нужно сделать, но нам уже ничто не угрожает, и у него просто не осталось сил, он на время отключился от решения ежедневных и неотложных проблем. Сейчас Сара и, возможно, я должны принимать решения.
Остаток дня проходит спокойно. У нас просто нет сил принять участие в лихорадочном шабровании, чтобы хоть как-то компенсировать то, что мы потеряли.
Шабрование.
Для нас, только что освободившихся из лагеря, и многих других, ограбленных войной, с пустыми руками вернувшихся в Ченстохову, начинается период отчаянных усилий: раздобыть жилище, какую-нибудь мебель, чтобы можно было жить, одежду, продукты, кастрюли, вилки, ложки, сумки – все, что нужно человеку, чтобы жить более или менее нормальной жизнью. У тех, кто был в лагере, нет денег, нет ничего, но мы должны любым способом достать себе самое необходимое. И тогда появляется новое выражение – шабровать.
Шабровать – не значит грабить кого-то или украсть что-то, что тебе не принадлежит. В нашем положении в шабровании нет ничего предосудительного. Немцы отняли у нас все, что у нас было, они в буквальном смысле слова раздели нас до нитки – и у нас, тех, кто чудом выжил, не осталось ничего – кроме наших изуродованных жизней. В таком положении взять что-то, что немцы бросили в панике и в чем человек действительно нуждается – в этом нет греха. Но я, наиболее подходящий в нашей семье, чтобы заняться шаброванием, чтобы раздобыть вещи, которые нам очень нужны – я почему-то не могу себя заставить этим заняться. Никто и ничего от меня не требует, но я понимаю, что мог бы помочь семье, и переживаю, что этого не делаю.
Вместо этого Сара отправляется к госпоже Пловецки – все, что мы ей оставляли, в целости и сохранности, мы можем забрать наши вещи в любой момент. Сара чувствует облегчение – на земле есть честные люди.
Но я думаю только об одном – как мне начать учиться. Может быть, это в какой-то степени оправдывает, или, вернее сказать, извиняет, что я не участвую в организации нашего быта. Вместо этого весь первый день я бегаю по различным школам, хочу узнать, когда они начнут работать, спросить, могут ли они меня принять – но все школы заперты. Под вечер я спустился на склад в доме на Гарибальди и нашел там почти не ношенную, свободную и мягкую светло-коричневую замшевую куртку. Эта куртка будет моим главным нарядом много лет. Кроме этого, я разыскал пару обуви. Башмаки не новые, но подошвы потолще, чем на моих драных башмаках из Хасаг.
Девятнадцатого января, через два дня после нашего чудесного спасения, мы делаем еще одну попытку вернуться в нашу квартиру – больше ждать нельзя, ее может занять кто-то другой. С улицы Гарибальди мы берем с собой только постели и одеяла, наши лагерные узелки и сарины три бутылки коньяка. Нам не составляет никакого труда отнести все