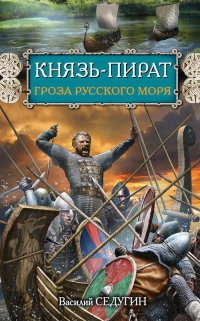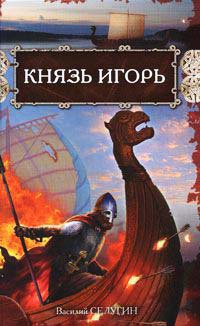Твои? — спросил Ермак Пана.
Мои, — помертвелыми губами прошептал Пан.
Толкай! — Ермак ногами подкатил куль к дымящейся проруби...
Помилосердствуй, батька... — прошептал Пан. — Я же с ними в боях был, с Яика шел...
Ну! Зараз сам туды пойдешь...
Пойдешь! Нашел кого жалеть! — заговорили казаки в толпе.
Пан, белый как снег, присел на корточки и, обхватив куль, стал тащить его к проруби. На самом краю оступился, сел и, зажмурившись, столкнул мешок ногами в воду...
Будьте вы прокляты! — сказал Ермак и спихнул второй куль.
Атаманы и казаки пинками столкнули в воду остальных.
— Это задаток! Задаток! — повернув к казакам бледное лицо с трясущимися губами, сказал Ермак. -- Это легкая смерть. Ежели кто еще ушкодит — в лютых муках кончится! Долго смерти просить будет!
Татары молча смотрели на казнь.
Их с подарками, на санях, увезли обратно. Но нее равно вскоре многие семьи из Кашлыка ушли. Град Сибирь сделался полупустым. В нем остались несколько семей, где не было мужчин, да со своими служанками Кучумовы жены... Ермак приказал держать во граде Кашлыке караул — для обережения от лихих людей. Караул стоял на стене денно и мощно, в случае нужды готовый немедля вызвать подмогу с Карачина-острова. Но кольцо татарских улусов вокруг казачьего лагеря стало почти непроходно для стекавшихся отовсюду лесных людей, несших ясак и продовольствие. И виной тому было не только преступление, совершенное казаками. О нем и о наказании Ермака мгновенно разнесли известие по всем кочевьям, разумеется приплетая с три короба.
Так, говорили, что Ермак казнил неверную жену Кучума и казнил бородатых неверных за то, что они чинили обиды правоверным. Что он — кыпчак и, наверное, не простого рода. В том, что он не меньше чем князь, не сомневались остяки и вогуличи. И татары начинали поговаривать, что, скорее всего, Ермак пришел отомстить за убитого Едигера. Что он сам хочет стать ханом Сибирским и, наверное, имеет на это право. Среди татарских мурз началось брожение, пока еще небольшое, тайное... Но разговоры о том, что Кучум-хан незаконный, которые не стихали все долгие годы правления ставленника Бухары, усилились. А непроходны улусы стали потому, что из-за Камня вернулся, с Кучумовой отборной гвардией, Алей, который так и не взял Чердыни...
Сражение на Абалаке
Казак и рыбак — это все едино! — авторитетно заявил Окул. — Казак, ежели он настоящий, в сухом сапоге карася словит!
— А как же, — вторил ему Ляпун. — На Дону, да на Волге, да на Яике чем кормимся — чешуей да плавником!
— Я как по первости на Дон прибежал, — посмеиваясь, рассказывал воровской казак Щербатый, — прибег, значить, ну ладно... Хопер переплыл, а много народу переправилось — человек с пятнадцать и более. Ну, которые сушиться да спать... А я до того оголодал, думаю: «Ну-ко, ушички наварю». Леска завсегда с собою, крючок закинул. А она как бешеная хватает... Натаскал куканчик. Ну ладно. Казан попросил, костерок сварганил и сижу. А уж светает... Хлоп, идут казаки с атаманом. И сразу пытают — чей костер? Я говорю — мой. Заробел даже. «Где рыбу взял?» — «Наловил». — «Когда переправился?» — «Вчерась к ночи». — «Щербой угостишь?» — «Ухой, что ли?» — «Это, — говорят, — у кацапов уха, а у казаков — щерба». Спробовали. Похвалили. Остальных беглецов спрашивают: «А вы что, много харчей имеете? Как собираетесь в войске содерживаться? Думаете, мы вас кормить станем? Ступайте обратно, на Русь смердячую, нам дармоедов не надобно. И нянек ходить за вами тут нет! А этого берем! Он гожий». И нарекли меня Щербатый, что, мол, я через щербу в товарищи вошел. А вы думали, что зубов нет? Зубы-то уж потом мне турок, Царствие ему Небесное, под Синопой кистенем выхлестнул.
Дни стали морозные да ясные! Небо синевы — ослепительной! Иней чистым серебром с ветвей темных елей сыпался. И снег под торбазами скрипел крупитчатый. Лесные люди ясачные мороженую рыбу привезли.
— Где взяли?
— А тут неподалеку, на Абалак-озере.
Живо снарядились сами ловить! Атаман Брязга всем своим стругом пошел. Двадцать человек.
Взяли пару лошадей, приспособили сани. Снасти, прикорму набрали. Двое манси на лыжах вперед побежали — дорогу показывать.
Взяли пару пищалей да самострелов — ради зверя какого, мало ли, по дороге попадется. Поехали.
Завыл-запел снег под полозьями, застучали копытами мохноногие сибирские лошадки. Гаркнули песню казаки. Воровскую, отчаянную:
Полно, братцы, нам крушиться, Полно горе горевать, Татарину работать. Станем гулять-веселиться, Казань-город с бою брать...
Ловко пели, складно, вылетал пар из луженых глоток двух десятков самых отчаянных воровских казаков. С бору по сосенке собрались они со всей Руси к атаману Кольцу. Все бросили — и мать, и отечество! Гуляли по Волге, по морю Хвалынскому, грабили караваны персидские, да и купеческими не брезговали... Веселились-тешились. Сбились в ватагу воровскую, выбрали атамана Богдана Брязгу. Был- Богдан сыздетства подкидыш — потому и стоять ему без отца и матери пришлось за себя самому, потому и наловчился он по скулам да по макушкам кулаком брязгать, да так брязгал, что не одному супротивнику висок проломал. Скор был на руку, сноровист.
Под стать ему и Кирчига — хрипун. В бою, в корчме ли полоснули его засапожным ножом по горлу, повредили нужную жилу, потому и Кирчигой-хрипуном назвали его в Господине Великом Новгороде тамошние воровские люди-ушкуйники. А уж про Окула — бестию продувную, и говорить нечего. Окул — во всем окул — и в карман, и за пазуху залезет, и кошелек срежет, и в любую игру обыграет. Одно слово, Окул — обманщик. Бит сильно бывал, а повадок не изменил. Только вот среди казаков на походе баловать опасался. Здесь не то что на Москве да В Новгороде, здесь мигом в мешок и в воду. Страдал от этого Окул, страдали и воровские казаки — не давали им казаки вольные разгуляться.
Ох, половцы поганые! — ярились воровские. — Татарва недорезанная. Все у них не по-русски, и чекмени, и кушаки. Того нельзя, этого нельзя...
Шипели по углам, но языки прикусывали. Понимали, что вольных казаков только старые степные обычаи и спасают, а то давно бы крамола пошла. Давно бы друг другу горло порвали.
Нельзя сказать, чтобы вольные воровскими брезговали — товарищество казачье всегда было прочно: люб lie люб, а попал в казаки — брат! Все по-братски: и хлеб, и сеча; а все ж как ни перемешивал Ермак вольных с воровскими, а так выходило, что на одном струге — вольные, а на другом — воровские, у одного казана по-татарски говорят, а у другого — где по-нов-городски цокают, где по-московски акают. И ничего тут не поделаешь!
Спасибо, обычай позволял своих атаманов выбирать. Потому и выбрали Брязгу, а не половца какого-нибудь, навроде Мещеряка. А все едино верховодили вольные. Половцы прикоренные! Что Ермак, что Черкас, что Мещеряк. И приходилось воровским языки прикусывать, и не потому, что те — атаманы, а эти — казаки простые. У казаков сегодня — атаман, а завтра — яман (смерть). Глядишь, и валяется атаман без головы. Но воевать — не воровать, здесь умение надобно! А вот его-то у воровских и не было! И сильны, и ловки, и храбры были выше меры, а бой понимали не всегда. Эта наука из поколения в поколение передается, с молоком матери принимается. Где воровским с вольными сравняться, ежели тех отцы с трех лет стрелять обучали да рубиться, а с пяти за собою в набеги таскали?.. Потому-то было у вольных к старшим почтение, все помнили, каких они родов, от какого корня... И хоть дружились с воровскими, а к семьям своим, по Руси раскиданным, не допускали... Война вместе, а мир врозь. А на войне строгости — как в церкви! Бабу тронуть не моги, зелена вина не пей, черным словом не ругайся! В сугубом сражении — пост! А где же радость гулевания? Все тишком да шепотком!