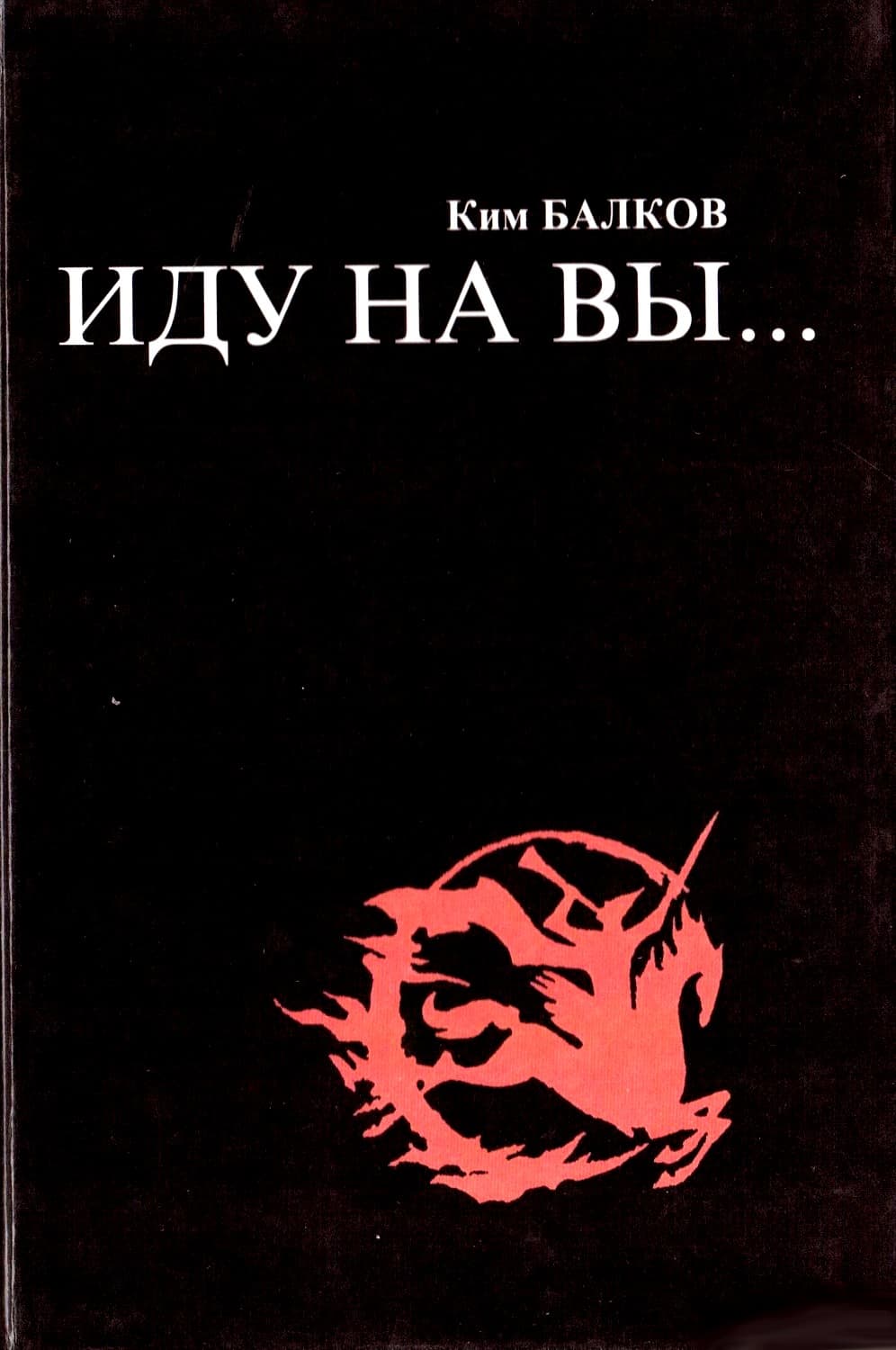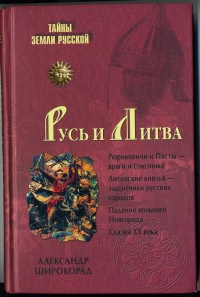многоколесные, греческого подбоя, возки с длинными, плотно увязанными плахами, наброшенными на обильно смазанные рыбьим салом, тускло поблескивающие оси. Пригнали и подневольных людей, хотя кое-кто из воевод полагал их мало пригодными в воинском ремесле и больше рассчитывал на ратников. Но, как ни странно, эти люди оказались расторопны и ловки, словно бы им в удовольствие подымать насыпь, словно бы они уже давно ждали прихода русского войска, которое повалило бы опротивевшую им Корсунь. И по прошествии седмицы, когда воеводы решили, что земли поднято столько, сколько и надо для того, чтобы охотники смогли проникнуть в осажденный город и распахнуть ближние ворота, насыпь стала оседать. Оказалось, горожане, сделав подкоп под стены, приспособились выбирать землю из-под нее и разбрасывать по улицам и заулкам. И столь скоро и решительно, что насыпь на глазах оседала и рассыпалась.
Не помнил Добрыня, чтобы он когда-то с головой, как в омут, окунался в растерянность, а вот теперь… Впрочем, и теперь в нем если что-то и преобладало, придавливая другие чувства, то, пожалуй, не растерянность, а нечто иное, лишь слегка подтачивающее его решимость. Он не хотел бы долго держать войско под стенами Корсуни, но, поразмыслив, решил, что ничего более не остается, как терпеливо ждать, когда в городе начнется голод и осажденные сами сдадутся на милость киевского князя.
Большой воевода отдал необходимые распоряжения, и Корсунь обложили столь плотным кольцом, что и малый зверек не проскочит. И тут случилось удивительное, и не то чтобы какое-то небесное предзнаменование, впрочем, наблюдалось и оно, озарившее на мгновение посреди глухой ночи ближние окрестности, а обычное земное дело. Однажды Владимир вышел из шатра и увидел на земле длинную красную стрелу, все же не она привлекла его внимание, а кусок желтого пергамента, накрученный на нее. Владимир взял стрелу в руки, развернул пергамент и прочитал, хотя и не без труда, писанное греческим письмом: «Перейми, княже, воду из колодца, лежащего от тебя к востоку. А коль исполнишь по сему, то и останется город без воды и сделается легкою твоею добычей».
Прочитал Владимир и никакого приметного чувства не обозначилось в лице, было все так же спокойно и как бы обращенно к собственной душе, где с недавних пор возжегся дивный, благо дарующий свет и появилась твердая неколеблемость от сознания, что все происходящее есть малость, заранее определенная Господней волей, и ничему другому не быть, как только упадающему от этой Всевеликой воли.
Через седмицу русское войско вошло в Корсунь.
6.
Отчего так тягостно на душе у Могуты? Или слухи, коими полнится земля, а они часто не от доброго сердца, беспокоят? Или что-то еще, протянувшееся от неустройства жизни?.. Да нет, другое в нем ныне, захолодившее душу, тоска уж немалую пору держится и нету с ней сладу, не стронется с места, не отступит, а вроде бы даже с каждым днем все усиливается. Могута и так, и этак старается прогнать ее, да без толку. По этой причине он и с младшей женой несвычно сдержан и уж не поморщится, коль скоро она сделает что-то непоглянувшееся ему, за что в иное время укорил бы беспамятную, все ж любезную сердцу. Бывает, оседлает коня, выедет за городище и долго скачет лесными тропами, едва успевая увертываться от колючих веток. Право слово, если бы кто-то понаблюдал за ним в эту пору, то и диву бы дался: седой муж, про кого ведомо во всех русских родах, вытворяет невесть что, словно бы ошалел от напасти ли, от неукладья ли в голове. Носится по лесу, запамятовав про то, что тут нужно вести себя строго и спокойно, не тревожа сущего, чему ты и сам есть в иные формы облегшееся продолжение. Уж когда очнется и окажется способен пробиться сквозь тоску, то и скажет со смущением в сильном голосе, привыкшем взмывать высоко, вещей птицей воспаряя над землею:
— Чего это я, а?!..
Но только и скажет и в растерянности потреплет скакуна по взмокревшей шее, а потом спрыгнет на землю, подойдет к дереву и долго будет стоять подле ствола, запрокинув голову и с напряженным вниманием прислушиваясь к шелесту ветвей. Иной раз узрится памятное по давним летам, и тогда глаза засветятся, и суровость схлынет, подобно речной пене, и прозрачное и чистое отметится на самом дне их. И помнится Могуте, что мал он еще, совсем юнец, нечаянно, по собственному неразумению покинувший отчий дом и очутившийся в темном, сразу же за околицей, таежном неоглядье. И шел он тогда чернотропьем и дивовался на деревья и о чем-то спрашивал у них, и они отвечали, он теперь еще не забыл про это, только не скажет, про что же они говорили. Может, про свое земное устояние, которое в усладу, но нередко и в истощение сущего в древесном теле? А может, еще про что-то? Иль нету в деревьях, ослабевших в духе, тоски, что вдруг поменяет в них, еще вчера беззаботно принимавших ласковое солнце и как бы даже слившихся с его лучами, почему в ветвистых кронах все сияло, переливалось удивительным разноцветьем? И коль скоро человек видел это сиянье, то и в нем самом делалось светло и нетомяще.
Так и было. Шел малец по лесу, все дальше отдаляясь от родного городища, пока в небе не потемнело и в кронах деревьев не захлестал верховик, клоня тяжелые стволы к густо обшитому папоротником болотистому обережью. Тогда юнец замедлил шаг и со вниманием посмотрел вокруг, проявляя интерес к тому, что совершилось в природе, и не понимая причину этого, не понимая, отчего пала темнота, и спрашивая: куда же теперь мне идти?.. Стало грустно, и все потому, что деревья уже не отвечали на вопрошающие слова, отягощенные другой заботой, про которую он, хотя и не знал еще, догадывался по истому перехлесту ветвей, по тому, как вдруг задрожали стволы. И даже те, матерые, повидавшие на своем веку, начали проявлять тревогу. И, словно бы желая помочь им, нечаянно ослабевшим, юнец лег на землю, прижался к одному из стволов, обнимая и шепча озабоченно:
— Эк-ка… Эк-ка… Я же рядом с тобою, зачем ты?..
Его нашли за полдень другого дня; отец был суров с ним и не скоро еще оттаял… Тогда повсюду рыскали ватаги похабных людей, и сын светлого князя, угодивший в их руки, стал бы для них богатым даром.
Знает Могута много чего, а вот не скажет, почему на душе иной раз такое творится, что все в нем переворачивает,