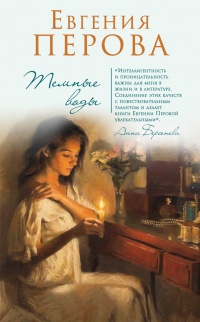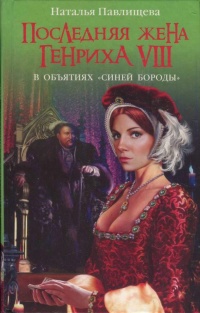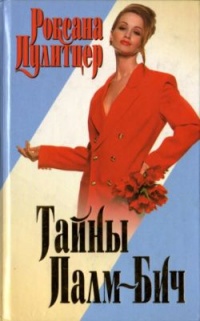Момо уже сидит. Кожа у него такая прозрачная, что он кажется призраком себя самого — в каком-то смысле так и есть.
— Где мама? — медленно спрашивает он, словно речь дается ему с трудом.
— Она пока во дворце. Она… — я на мгновение замолкаю. — С ней все хорошо.
А что еще мне сказать? Ему нет и четырех, как он может понять, что происходит, что придется пережить его матери? Я понимаю, что должен вернуться. Как-то дать ей понять, что он жив, иначе она и впрямь сойдет с ума от тревоги.
— Когда она придет?
— Она пока не может прийти. Не волнуйся, Момо. Мы с тобой отправимся в путешествие, в долгое путешествие — так просила мама.
Лицо его, загоревшееся было, гаснет. Глаза наполняются слезами, но он слишком горд, чтобы дать им пролиться.
— Тогда ладно, — всхлипывает он. — Когда мы поедем?
— Завтра. Несколько дней мы будем ехать на мулах в Танжер, а потом на корабле поплывем в Англию, откуда родом семья твоей мамы. Будет трудно, Момо, и тебе придется вести себя тихо и отважно. Ты сможешь, ради мамы?
Он торжественно кивает.
— Давай, покажу тебе сундук, — тихо говорит Даниэль, трогая меня за плечо. — Дай мальчику поспать, завтра он придет в себя.
Я подтыкаю Момо одеяло и касаюсь кончиками пальцев его лба, как делала моя мать, чтобы отвадить злых духов и дурные мысли.
— Отдыхай. Завтра я за тобой приду, иншалла.
— Иншалла, — сонно повторяет он и отворачивается.
Большой деревянный дорожный сундук — вещь замечательная. Неглубокое потайное отделение внизу, где будет лежать бедный Момо, обито тканью с мягкой подкладкой, в дне и боковинах просверлены незаметные отверстия для доступа воздуха. Надеюсь, никто из тех, кто решит обыскать сундук, не догадается о потайном отделении. Для Момо у меня есть мягкое снотворное, чтобы облегчить самые страшные тяготы, но даже так не представляю, как он справится, бедный малыш. Часами лежать ничком, без движения, пока тебя трясут мулы и носильщики, — суровое испытание для самого отчаянного беглеца, что уж говорить про резвого ребенка, который обычно не может усидеть на месте и не сумеет понять, зачем нужна такая скрытность. Поверх него будут сложены головы сахара и соли, мешки шафрана и специй, которые мы везем английскому королю в подарок от султана. Большая ценность, но не настолько редкая, чтобы привлечь воров или вызвать нежелательное любопытство. Надеюсь.
Столько всего может пойти не так, что мне приходится удерживать свой разум от оголтелых метаний по разным темным закоулкам. Но, по крайней мере, сейчас Момо жив, и по нему не видно никаких дурных воздействий опасного зелья, которым опоила его нынче утром сама Зидана, думая, что отправляет на смерть. Зелья, добытого для нее мной. Что за безрассудную двойную игру я провел! Проявить столь отчаянную находчивость меня заставил растущий страх Элис за сына и намек на возможность побега, предоставленную английским посольством. Но я бы ничего не смог сделать без доброго купца. Он рисковал жизнью, чтобы помочь нам, ради одного лишь вознаграждения — дружбы.
Ибо именно Даниэль, а вовсе не ненадежный травник, достал мне зелье, состоящее в основном из вытяжки пустынного дурмана. Его-то я и отдал Зидане, оно-то и привело Момо в состояние, похожее на смерть. Даниэль устроил так, что его друг, доктор Фридрих, признал мальчика мертвым — доктор Фридрих последние несколько недель проверял вещество на самых разных созданиях все большего размера, чтобы определить верную дозу. И именно Даниэль со своим зятем Исааком, последовав за похоронной процессией на кладбище, дождался, пока все разойдутся, извлек мальчика из мягкой земли, когда стемнело, вынул из савана, подменил костями другого, безымянного, младенца, умершего от чумы, и принес в свой дом, чтобы дождаться меня. Даниэль заказал у надежного плотника дорожный сундук, наполнил его солью и другими товарами — это и стало предлогом, под которым я посетил его дом, поскольку, по крайней мере, этот заказ был официальным, и его в кои-то веки оплатило казначейство.
У дверей Даниэль вкладывает мне в ладонь листок бумаги. На нем его твердой рукой написано имя и адрес в Лондоне.
— Не знаю, поможет ли он тебе. Мне он не больно-то нравился, когда мы вместе вели дела, но, возможно, то было недопонимание между иноземцами, и стоит верить в его лучшую природу.
Он закрывает мою ладонь с запиской, сгибая мне пальцы, и тепло меня обнимает:
— С Богом, Нус-Нус. Я прослежу, чтобы сундук и его драгоценное содержимое с утра доставили к воротам дворца, вместе со всеми грузами посольства. Буду молиться о том, чтобы все удалось — мы с тобой, если будет на то воля Божья, еще увидимся.
Я так и не попрощался с Элис.
Решив, что малышку Мамасс в наш опасный заговор вовлекать не стоит, я отыскал доктора Фридриха и попросил его передать Белой Лебеди, что ее сын жив и направляется в Англию. Он скривился.
— Я и так уже подставил шею под удар со всем этим, — удрученно сказал он. — Думаю, удачу мне здесь больше испытывать не след.
Я уговаривал, но он покачал головой и вышел в коридор, оставив меня в своей жуткой лаборатории, среди банок с органами, решеток, на которых растянуты шкуры, и вываренных костей мириад неопознаваемых существ.
В долгом пути до Танжера я думаю о ней, рвущей на себе волосы и одежду, изображающей безумие от горя, не знающей, не окажется ли ее шарада зловещим отражением действительности.
Когда мы проезжаем через Гарб, на нас устраивают засаду полные надежд разбойники, недооценившие нашу огневую мощь. Вскоре им дают понять, как они ошиблись, но им все равно удается увести четырех мулов из обоза, и когда я вижу, что пропала повозка с моим дорожным сундуком, я шпорю коня и мчусь за ними, вопя, как царь джиннов. Поводок бедняжки Амаду, сопровождающего меня, надежно привязан к луке седла, и обезьянка верещит, рассерженная внезапной переменой аллюра. Потом поворачивается ко мне, скалится и закатывает глаза. Амаду сперва мешает мне целиться в нападавших, я отпихиваю его в сторону. От страха ум сосредотачивается, а рука становится железной; еще от страха я стреляю из мушкета как никогда. Одному разбойнику пуля попадает в затылок и начисто сносит лицо: я вижу алую развалину, когда он падает передо мной с седла. Второго поражает в бедро мое копье, прикалывая грабителя к седлу, и он воет. Амаду повторяет его адский вопль и начинает стрекотать, как демон. Видя, что я — лишь авангард императорских войск, остальные разбойники пускаются наутек, бросив украденные повозки.
Бен Хаду оглядывает место событий, подняв бровь.
— Молодец, Нус-Нус. С таким рвением защитил дары султана английскому королю! Не помню, чтобы ты даже за берберами гнался с такой жаждой мести.
Я опускаю голову, что-то бормочу о долге, и Медник смеется.
— Ты — пример для подражания. Я тебя повышу до заместителя посла на время поездки — хоть ты и будешь называться по-прежнему писцом. Идет?