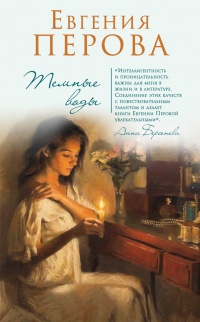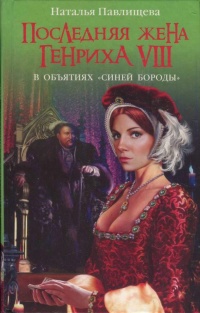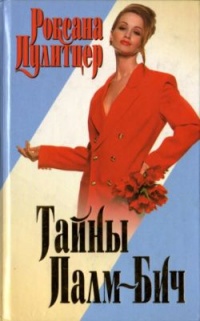1Дождь льет с ночи, превращая землю в болото. Колотит по черепичной крыше и террасам, где женщины обычно развешивают белье и откуда следят за перемещениями мужчин внизу. Стучит по зеленому фаянсу мечети Шавуя, по четырем золотым яблокам и полумесяцу на верхушке ее большого минарета. Стекает по стенам, окружающим дворец, оставляя темные, как кровь, пятна.
Мастера в прилипших к телам рубахах разглядывают предназначенные для главных ворот тяжелые кедровые брусья — разбухшие от воды, заляпанные грязью. Никому не пришло в голову закрыть дерево от дождя: в это время года красные холмы обычно выстланы коврами бархатцев, похожими на рыжий снег, а в городских садах начинает наливаться инжир.
На другом континенте французский король занят воплощением своих безумных идей по поводу дворца и садов в Версале. Султан Мулай Исмаил, император Марокко, объявил, что построит дворец, в сравнении с которым Версаль покажется ничтожным: его стены протянутся отсюда, из Мекнеса, на триста миль по горам Среднего Атласа до самого Марракеша! Первая стадия — Дар-Кбира с двенадцатью высокими постройками, мечетями и хамамами, дворами и садами, кухнями, казармами и куббами — близка к завершению. Через день должны торжественно открыть Баб аль-Раис, главные ворота. Правители провинций со всей империи уже прибыли на праздник и привезли с собой дары: невольников, золотую парчу, французские часы и серебряные подсвечники. В полночь Исмаил собирается своими руками убить волка, замуровать его голову в стену и похоронить тело под воротами. Но как, если сами створки ворот — главный символ этого великого начинания — не готовы? И как поступит султан, если его планы будут нарушены?
По крайней мере один из мастеров в раздумьях потирает себе шею.
На другой стороне площадки, на внешней стене, не покладая рук трудятся невольники-европейцы, закладывая чудовищную брешь — ночью там случился обвал. Глинобитная стена пропитана водой: песок с известью, судя по всему, изначально плохо обожгли, а дождь придал сооружению губительную неустойчивость. Без сомнения, починка тоже пойдет насмарку, и тогда всех высекут за небрежение. Или еще хуже.
Рабочие истощены и бледны, их лица заострились от голода, одежда разорвана и грязна. Один из них, с густой бородой и запавшими глазами, оглядывает пустынную площадку.
— Кости Господни, от такого холода боров сдохнет.
Его сосед угрюмо кивает:
— Мрачно, как в Гулле зимой.
— В Гулле хоть эль есть.
— Эль — и бабы.
Все вздыхают.
— Мне, после пяти месяцев тут, даже гулльские бабы сгодятся.
— Подумать только, ты же в море ушел, чтобы от баб сбежать!
Смех, вызванный этим замечанием, короток и горек. Первые недели в Марокко невольники, выжившие в зловонных подземельях, куда их, захваченных на купеческих и рыбачьих кораблях от Корка до Корнуолла, заточили эти иноземные бесы, рассказывали друг другу о своей жизни. В них еще теплилась мечта о доме.
Уилл Харви внезапно распрямляется, убирая с лица прилипшие от дождя волосы.
— Очи Христовы, вы только гляньте на это!..
Все оборачиваются. Открывается внутренняя дверь большого дворца, и наружу является хитроумное приспособление, а за ним высокая фигура, которой приходится согнуться почти вдвое, чтобы выйти — потом существо предстает во весь свой преувеличенный рост. На нем алое одеяние, отчасти скрытое шерстяным плащом с золотой каймой. Над головой в тюрбане оно держит круглый кусок ткани на длинной ручке, чтобы укрыться от проливного дождя.
— Это что еще за чертовщина? — спрашивает Харви.
— По-моему, это балдахин, — неуверенно произносит преподобный Эбсли.
— Да не утварь, болван. Тварь, которая ее держит. Смотрите, как выступает — ни дать ни взять ученая испанская лошадка!
Существо осторожно пробирается между лужами. Поверх расшитых каменьями туфель на нем грубые пробковые башмаки, которые жадно засасывает грязь. Рабочие с интересом наблюдают, как оно движется по двору, и вскоре начинают улюлюкать:
— Шут негодный!
— Катамит![1]
Перебросить часть своего мучения другому — редкое удовольствие, пусть даже этот другой — иностранец, не понимающий их ругани.
— Неженка вертлявый!
— Белый голубочек!
— Пополам!
Внезапно, словно последняя, самая невинная фраза попала в цель, существо останавливается и, откинув нелепое приспособление, смотрит на рабочих в упор. Его повадки и одежда, казалось, говорили о бессильном женоподобии, но лицо, обращенное к оскорбителям, опровергает это впечатление. Лицо это уж точно не белое — и не нежное. Оно кажется выточенным из обсидиана или какого-то твердого дерева, потемневшего от времени. Суровое и неподвижное, как маска воина, словно за ним и нет человека — если бы не белая полоска под черной радужкой, появляющаяся, когда его взгляд опаляет рабочих.
— Подумали бы, на кого ругаться.
Невольники в изумлении затихают.
— Щелкну пальцами — все ваши надсмотрщики сбегутся.
Ярдах в тридцати четверо, укрывшись под аркой, заваривают чай. В клубах пара, поднимающегося от котла, они похожи на призраков. Но эта бесплотность обманчива: дай им возможность кого-то наказать, они бросят свой чай и в мгновение ока ворвутся в мир людей, с кнутами и палками наготове.
Пленники неловко мнутся, слишком поздно поняв, как страшно ошиблись. Никто в этой богом забытой стране не понимает по-английски!
Придворный бесстрастно их рассматривает.
— В надсмотрщики берут за безжалостность. В этих людях не осталось ни капли человеческого. Им велено немилосердно наказывать ленивых и непокорных, они убьют вас и похоронят ваши тела в той самой стене, которую вы чините, без всяких сожалений. Вас всегда найдется кем заменить. Жизнь в Мекнесе стоит недорого.
Пленники знают, что каждое его слово — правда. В отчаянии они смотрят на Уилла Харви, надеясь, что он заговорит (в конце концов, здесь есть его вина, он привлек их внимание к этому человеку); но он опустил голову, словно ожидая удара. Никто не произносит ни слова. В воздухе висит напряжение.
Наконец Харви поднимает голову:
— Ты такой же человек, как мы? Или дьявол? Неужели ты прикажешь нас убить за несколько глупых слов?
Остальные втягивают воздух. Придворный на мгновение слегка улыбается. Потом маска возвращается на место.