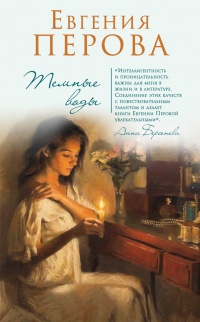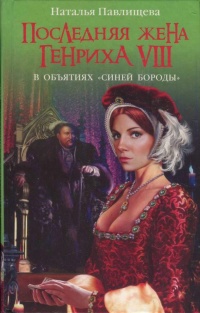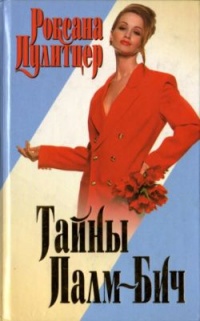— Нелегко приносить такие вести.
— Ты прав, сиди, — говорю я, поднимаясь на ноги. — Бедный малыш.
— Отец его обожает.
— Как и все мы.
— Возможно, кто-то обожает его не так сильно, как прочие.
Мы пристально глядим друг на друга. Потом я говорю:
— Не знаю, отчего умер ребенок, но я не видел на нем следов.
— Полагаю, есть… вещества, которые не оставляют следов.
— Доктор Фридрих сейчас осматривает тело.
Бен Хаду презрительно фыркает:
— Доктор Фридрих ест из рук у императрицы.
На моем лице ничего не отражается.
— Об этом мне неизвестно. А теперь я должен идти к султану, я могу понадобиться.
Я чувствую, как он смотрит мне вслед, пока я не скрываюсь из виду.
Мальчик мертв — доктор Фридрих не обнаружил пульс, и когда приходит Исмаил, Момо уже остывает. Суеверие не позволяет Исмаилу подойти к телу; он просто смотрит на него, словно не верит, что малыш, который смеялся и кричал, когда султан катал его по дворцу на плечах, лежит, тихий, неподвижный и уже никогда не закричит и не засмеется. Тело омывают, как положено, натирают благовониями, заворачивают в белоснежный саван и относят в мечеть, где кладут перед имамом. Я никогда прежде не видел, чтобы султан плакал — но сейчас он безутешен, и когда приходит время опускать ребенка в могилу, говорит, что не сможет смотреть, как такую красоту зарывают в землю, поэтому посылает меня, каидов и придворных проследить за похоронами. Тельце Момо упокоивают на узкой полоске земли лицом к востоку, к священному городу, который малыш никогда не увидит.
В женской мечети также возносят молитвы, хотя позже я слышу, что Элис так горевала и безумствовала, что ее решили оставить в ее покоях, где она ревет, как зверь, раздирает одежду в клочья и рвет щеки ногтями. Когда я прихожу в гарем на следующий день, всюду видны следы ее неистовых метаний — то клочок ткани, то пятнышко крови, — словно она проклятая, и никто не хочет даже убрать за ней.
Сердце мое стремится к ней, но когда спрашиваю, как она, мне говорят, что она заперлась у себя и никого не желает видеть, что она совсем лишилась рассудка и вернулась в прежнее животное состояние, а это позор для правоверного мусульманина, сразу видно — у нее душа неверной.
Накануне отъезда посольства меня призывает Зидана. Она в прекрасном настроении, лучится, как солнце. Объявлено, что смерть сына Белой Лебеди произошла от естественных причин: сбой сердца, вызванный недугом, которым мальчик, возможно, страдал с рождения. Так что она вне подозрений. К тому же прошлую ночь Исмаил провел с ней (хотя меня и не попросили сделать запись в Книге ложа), он даже не захотел повидать Элис, с удовлетворением говорит мне Зидана. Похоже, мальчик был ему дороже матери.
Она вручает мне мешок из телячьей кожи, полный монет и драгоценных камней, на поиски эликсира, который ей нужен; или на то, чтобы убедить его изготовителя приехать ко двору в Мекнес. Когда я беру мешок, рука Зиданы накрывает мою:
— Спасибо, Нус-Нус. Несмотря на все наши разногласия за эти годы, ты показал себя верным другом и преданным слугой.
Я ухожу, и на душе у меня скверно.
У меня есть еще одно дело до отъезда с бен Хаду — передача моих обязанностей при дворе и Книги ложа. При мысли об этом мне делалось не по себе: между мной и Самиром Рафиком нет мира. Я не хочу к нему приближаться и в комнату свою возвращаюсь с тяжелым сердцем. Но там меня ждет не Самир, а худенький, запуганный мальчик с бледным лицом фассийца. Он называется — Азиз бен Фауд. Догадался принести с собой письменные принадлежности: чернила, перья и переносной столик. Я объясняю ему его новые обязанности и удивляюсь, насколько он почтителен и смышлен. Почерк у него изящный, он опрятен и точен. Впитывает каждое мое слово, выполняет все задания, которые я ему даю, тщательно и без суеты.
Он наблюдает, как я нахожу запись о рождении Момо и вписываю в поле, которое всегда оставляют на подобный случай: «Эмир Мохаммед бен Исмаил объявлен мертвым в пятый день третьей недели Зуль-Када, 1091, да будет с ним благословение Аллаха».
— Бедный малыш, — тихо говорит Азиз.
Я с удивлением вижу у него в глазах слезы.
Когда я вручаю ему Книгу ложа, он принимает ее с благоговением, гладит обложку, словно живое существо, и почтительно заворачивает книгу в ее покров.
— Я жизнь за нее отдам, господин, — выдыхает он. — Тебе не придется меня ругать, когда возвратишься: я постараюсь следовать твоему высокому примеру.
Не помню, когда ко мне в последний раз относились с таким уважением, но достойным его я себя не ощущаю.
Я сказал, что у меня осталось одно дело — передача книги была моей последней служебной обязанностью. А теперь нужно заняться кое-чем не по службе, но это — самое важное.
Султан сегодня не покидает свои покои. Поэтому после последней молитвы вместо того, чтобы свернуть из мечети налево и вернуться в императорский дворец, я могу повернуть направо и направиться в город.
Медина в ночи жутковата. Мои шаги эхом отдаются в переулках, так что кажется, будто за мной кто-то идет, и я все время оборачиваюсь. Потом из подворотни порскает кошка, и сердце мое прыгает, как испуганный заяц. Когда я стучу в дверь, к которой шел, звук так оглушителен, что я почти жду, когда сбегутся стражники.
Даниэль аль-Рибати открывает дверь, и мы какое-то время смотрим друг на друга. Этот день дался нам нелегко: Даниэль выглядит измученным, да и сам я не лучше.
— Входи, Нус-Нус, — говорит он, пропуская меня внутрь.
Мы обнимаемся: мы теперь больше, чем друзья, мы — заговорщики, нас сближает общая опасность.
Мне не приходится даже задавать ему мучащий меня вопрос, он улыбается и кивает на потолок. Наверху мы входим в крохотную темную комнатку, освещенную единственной свечкой. В круге ее золотого сияния лежит нечто маленькое, укрытое полосатым одеялом. Я опускаюсь возле него на колени и беру ручку, виднеющуюся из-под покрова, в свои.
— Момо?
Сперва ответа нет, потом мальчик шевелится, морщит нос, щурится, ежится; и отнимает руку, словно хочет отвернуться и снова провалиться в небытие.
— Момо!
На этот раз он открывает глаза. Мгновение они кажутся такими темными и пустыми, что я уверяюсь: малыш лишился рассудка из-за наших безумных затей; потом из тьмы проявляется душа, и глаза наполняются жизнью. Ребенок видит меня и улыбается.
Никогда в жизни я не чувствовал такого облегчения. Я крепко его обнимаю. Поверх его головы я вижу улыбающегося Даниэля.
— Видишь, все с ним в порядке. Я дал ему противоядие от дурмана, а когда он очнулся днем, съел половину краюхи и куриную ногу, заглотал, как голодный пес. И потом уснул — крепким, целительным сном.