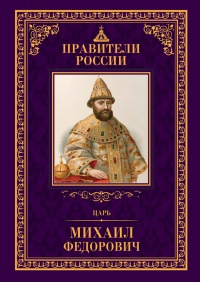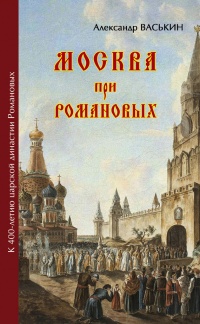Причины «измены» Шеина видели в присяге, которую он, находясь в плену в Литве, якобы дал королю Сигизмунду III и королевичу Владиславу «на всей их воле» и о которой не объявил царю Михаилу Федоровичу при возвращении из плена. Следованием этому тайному крестному целованию и объясняли преступления воеводы под Смоленском. На самом деле, последний аргумент нужен был только для того, чтобы хоть как-то бросить тень на геройское поведение Михаила Борисовича Шеина во время смоленской обороны 1609–1611 годов. Отменить этой службы было нельзя, а вот очернить, оказалось, можно. Между тем все объясняется просто. Как давно заметил С. М. Соловьев, «защищать город и осаждать — две вещи разные»[316].
Обращает на себя внимание спешка, с которой была совершена казнь боярина Михаила Борисовича Шеина и окольничего Артемия Васильевича Измайлова с сыном Василием: как только «измена» была «прочтена», приговоренных «того ж часу вершили, отсекли им всем трем на пожаре головы»[317]. Судьба крепко связала их общей службой под Смоленском. Так называемый Хронограф Пахомия, отразивший боярскую трактовку событий, писал, что боярин Шеин под Смоленском «от гордости своея на всех воевод и на немецких полковников нача злобитися и их бесчестите, ратных же людей оскорбляти… и аще не бы стайбницы его околничей Артемей Измайлов и сын его Василей кривой удержеваше от гнева того, и он бы, Михайло, в кручине и в гордости своей вскоре скончался»[318]. Сыновья второго воеводы Василий и Семен Измайловы, согласно обвинительным статьям, вели под Смоленском вольготную жизнь, приглашали к себе на стан литовских людей и перебежчиков на службу к польскому и литовскому королю Захара Заруцкого (брата известного предводителя казаков), смольнянина Юрия Потемкина, Ивана Мещеринова. «А ты, Василий, будучи под Смоленском, воровал государю, изменял болше всех», обвиняли старшего из сыновей Артемия Измайлова, с изменниками «пировал и потчевал и дарил и от них подарки с братом своим с Семеном имал и ночевать их у себя унимал, и они… у тебя Василья были и ночевали, а приезжали к тебе с своим кормом и с питьем и провожали тебя Василья до стану и разговаривал с ними о всем, что годно было литовскому королю». Конечно, такие пиры не могли остаться тайной в войске, да и сам Василий Измайлов подливал масла в огонь своей несдержанностью. Еще находясь под Смоленском, и потом, когда царское войско отошло от этой крепости, он во всеуслышание заявлял о непобедимости короля Владислава: «Как де против такого великого государя монарха наше московское плюгавство бьется, каков был царь Иван, и тот де против литовского короля сабли своей не выимывал и с литовским королем не бивался». В этих речах было еще одно преступление, которое царь Михаил Федорович не мог простить Василию Измайлову — глумление над памятью патриарха Филарета: «Да ты же, Василей, услыша про великого государя, блаженныя памяти святейшаго патриарха Филарета Никитича Московскаго и всеа Русии смерть, разговаривал многое воровское непригожее слово, чего и написать не уметь»[319].
Остальные воеводы тоже пострадали. Уже 18 апреля 1634 года, в день объявления приговора царя и Боярской думы о наказании смоленских воевод, были посланы дворяне и дьяки переписывать «опалные дворы» Михаила Борисовича Шеина и Артемия Васильевича Измайлова, а также воевод князя Семена Васильевича Прозоровского, князя Михаила Васильевича Белосельского, а заодно и родного брата Артемия Васильевича Измайлова — Тимофея, ведавшего во время Смоленской войны Казенным двором и не участвовавшего в военных действиях. Но таковы были московские порядки: в случае царской опалы весь род отвечал за деяния провинившегося. Был бит кнутом и отправлен в Сибирь Семен Измайлов. Воевод князя Семена Васильевича Прозоровского и князя Михаила Васильевича Белосельского помиловали, потому что все засвидетельствовали «раденье» к службе одного и болезнь другого.
Это единственная за все время царствования Михаила Федоровича казнь членов Боярской Думы. Произошедшее настолько не было свойственно характеру царя, что сложилась легенда о том, что Шеина и Измайлова обманом заставили признать свои вины, обнадежив воевод тем, что государь помилует их. Рассказ об этом содержится в книге Адама Олеария «Описание путешествия в Московию». Немецкий путешественник впервые приехал в Москву несколько месяцев спустя после описываемых событий, в августе 1634 года. Он пишет о том, что в столице сложилась ситуация, близкая к бунту: «Вернувшиеся в жалком состоянии из-под Смоленска солдаты стали сильно жаловаться на измену генерала Шеина». Чтобы отвести подозрение от «более высокого лица» (здесь Олеарий, вероятно, подразумевает патриарха), «приказано было обезглавлением Шеина дать народу удовлетворение». Естественно, что такой поворот событий устроил бы многих, кроме самого боярина, которого убедили в том, что его сначала поведут на казнь к плахе, а потом помилуют: «Лишь бы видел народ желание великого князя, а как только Шеин ляжет, сейчас же явится ходатайство за него, а затем помилование, и простонародье будет удовлетворено». Однако в рассказе Адама Олеария есть некоторые детали, не позволяющие с доверием отнестись к приведенному им известию. Так, патриарх, на которого якобы надеялся «генерал Шеин», был к тому времени уже в могиле, а сын Шеина вовсе не был засечен кнутом до смерти «по требованию народа»[320].
Но легенда оказалась живучей, и ее в начале XVIII века воспроизвел историк Василий Никитич Татищев в набросках к своей (кстати говоря, первой по времени создания) работе по истории царствования Михаила Федоровича. В. Н. Татищев писал, что хотя боярин Михаил Борисович Шеин был «от его величества весьма немилостивно принят», он «в допросе пред боярами имел некакие письменные к своему оправданию доказательства». Однако какие-то «скрытные злодеи» «столько сумели обольстить и уверить, что ежели они тех писем не объявят, то они уверивали, что их старанием ни до какова зла не дойдет». Как видим, в известии В. Н. Татищева акцент сделан не на гипотетическое восстание московской черни, как у Олеария, а на происки врагов воевод, поэтому эти известия можно рассматривать как независимые друг от друга. Дальше, по рассказу В. Н. Татищева, начали разыгрываться настоящие страсти. Естественно, что воевод обвинили и «немедленно велели их, у Архангела исповедовав и причестя, на площадь вести». Увидев «плаху и топор», приговоренные к казни «узнали оной обман и опаметовались», попытавшись все-таки предъявить свои оправдания, но было уже поздно. «Злодеи» не дремали и довели дело до конца, прислав подтверждение палачу, чтоб «казнил не мешкая». Посланный же от «Сената» (то есть, вероятно, от Боярской думы), «прибежал поздно».
Самое интересное, что В. Н. Татищев точно указывает место погребения тела М. Б. Шеина в Троице-Сергиевом монастыре: «Их невинность потом довольно истинна явилась, и для того немедленно тела их велено в Троицкий монастырь свести, с честию погрести и в вечное поминовение написать. А наследникам их даны грамоты, чтоб тем их никто не порицал»[321]. Источником этого известия, скорее всего, были сами наследники М. Б. Шеина — современники В. Н. Татищева. Однако от внимания потомков, заинтересованных в реабилитации своего предка, ускользнула одна важная деталь: разрешение на погребение тела М. Б. Шеина в Троице-Сергиевом монастыре было дано не «немедленно», а семь лет спустя, в ноябре 1642 года. Именно тогда, согласно вкладным книгам Троице-Сергиева монастыря, был «погребен в дому живоначальные Троицы боярин Михайло Борисович Шеин, да сын ево Иван Михайлович». Внук казненного боярина Семен Иванович Шеин дал богатый вклад и деньги на погребальные и поминальные столы. Одновременно с ним 30 ноября 1642 года сделал вклад по боярине М. Б. Шеине еще один участник этих событий — боярин Борис Михайлович Лыков[322], что можно рассматривать как запоздалый жест человека, не поддерживавшего казнь, но не сумевшего предотвратить ее. Впрочем, посмертное прощение боярина М. Б. Шеина показательно и для царя Михаила Федоровича.