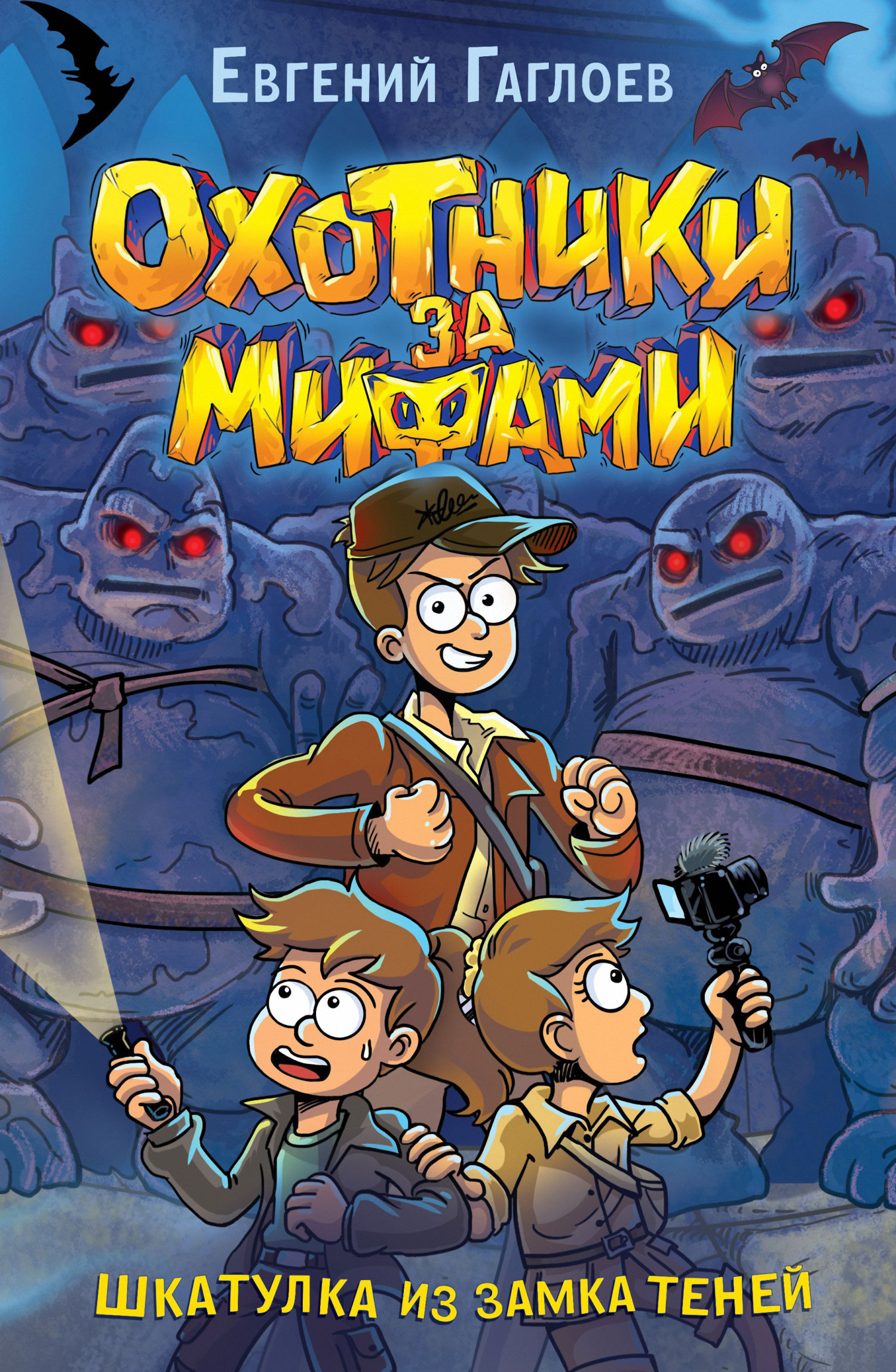для вас, – так и не оторвав глаз от Маришки, Анфиса выудила из кармана юбки конверт. – И вы уж мне поверьте, не самые приятненькие-то.
* * *
Прикроватная лампа тускло освещала дортуар дрожащим пламенем. Сколько керосина там оставалось, было неведомо, но Маришке думалось, что мало. Ещё немного – и комната погрузится в темноту.
А пока на облупившихся стенах устрашающе дёргались тени кроватных спинок, комодов. В соседних комнатах и коридоре было так тихо, будто Маришка осталась в мрачной усадьбе совсем одна.
Тетрадь подрагивала в покрасневших от холода пальцах.
«…была найдена мёртвой возле деревни. И Яков её опознал».
Она в третий раз перечитала последнюю дневниковую строчку, сжимая зубами конец карандаша.
«Найдена мёртвой… Опознал».
Челюсти сжались, и карандаш хрустнул. Щепки укололи язык. Маришка выплюнула отгрызенный конец на шерстяное одеяло.
Запёкшаяся кровь стягивала кожу под нижней губой. Она всё сочилась и сочилась – из губы, из десны. Маришка позволяла ей свободно стекать по подбородку. А его всё стягивало и стягивало. Он всё чесался и чесался.
Маришка снова потёрла челюсть основанием ладони. И застрочила в дневнике:
«Анфиса велела нам разойтись по комнатам. Велела молить Всевышних и Единого Бога за упокоение души Танюшиной. Читать молитвы до самой ночи, покамест не заснём. Мы не станем ужинать ей в уважение. Мы не станем ни с кем разговаривать до самого утра. Так нам велено господином учителем, с Анфисиных слов. Мол, прямо в письме так и написал. Пущай до конца дня только и делают, что молятся. Молятся и молятся, вдруг заблудшую душу удастся спасти. Но я не хочу молиться. Мне нужно бежать. А я не могу. Не могу без Насти. Просто не могу».
Будь карандаш поострее, на точке прорвал бы бумагу. Но приютским давно уже не выдавали заточных ножей. И грифель просто выдавил крошечный бугорок на обратной стороне.
Молиться. А что будет, ежели Танюшу не удастся спасти?
Всевышние всё же наказали её. Быть может, девочка прогневила их пуще остальных? Почему?
Маришкины глаза заскользили вверх по странице:
«Охотники на медведей обнаружили её рядом с деревней. Там вокруг поселения местные вырыли глубокий ров – им спасаются от хищников да разбойников. А на дне вкопали колья. Анфиса сказала, Танюша не сразу умерла. Несколько часов промучилась. Анфиса сказала, что поделом – нечего было убегать. Анфиса сказала, Всевышние наказали её за непослушание и неблагодарность».
Маришка пригладила пальцем неряшливо загибающийся уголок страницы.
«Она полагает, ребёнок заслуживает смерти за непослушание?»
Завыл ветер, Маришкины глаза метнулись к щели между подоконником и рамой.
Нет-нет. Должно было быть что-то ещё. Просто должно.
Ветер принялся срывать с земли снежные хлопья, и те летели снизу вверх мимо окна, стремительные, словно мелкие белые мухи. Наверх, к небу. Будто желали на него вернуться.
«Где же Настя? Проклятье…»
Маришка отвернулась от окна и снова уставилась на исписанную страницу. Полотно серых уродливых закорючек.
Десятки строк о Танюше. О Всевышних. Смотрителе.
«Я не верю, что Танюша умерла так, как нам о том поведали…» – зачёркнуто. И выше: «Мне думается, что-то нечисто в этой истории. Я думаю, что Терентий… Весь дом».
И ни слова о том, что случилось сегодня с нею самой.
В комнате было в тот час особенно холодно. То ли эти земли окончательно захватила зима; то ли за несколько пасмурных дней старый княжеский дом совсем выстыл. То ли Маришку попросту лихорадило после всего пережитого.
Она отложила тетрадь в сторону, откинула на стену голову. И поджала колени к груди, натягивая на них подол форменного коричневого платья до самых щиколоток. Левый бок отозвался болью, и приютская снова почувствовала на языке вкус желчи. За минувшие часы он сделался почти привычным. И хотя, бесспорно, одним из малочисленных снисходительных даров приюта было умение принять на земле верное положение тела, когда тебя бьют… Маришке не удалось в этот раз отделаться малым.
То и дело о себе напоминал бок, без остановки кровила губа, рассечённая снаружи и изнутри – об собственные зубы. Ныла скула, саднил ушибленный железным ведром затылок.
Боль была повсюду, но дневниковые страницы отчего-то оказались от неё избавлены. Приютская не поведала им ни слова. Бумаги так и не коснулись роившиеся в голове мысли, вроде: «Сегодня был худший день моей жизни» или «Никто за меня не вступился. Никто».
Или: «Я хочу умереть».
Приютская заморгала часто-часто, силясь загнать слёзы обратно. Коснулась холодными пальцами раздувшейся, онемевшей скулы.
«За что Всевышние так жестоко наказывают меня?» – подумалось ей.
Но ответ возник в голове сам собой, стремительный, казавшийся единственно верным:
«Я ведь тоже в них сомневалась».
Руки Маришки покрылись гусиной кожей…
Женские крови совсем ослабили её, как и боль от побоев. Это никуда не годилось. Как ей удастся сбежать, ежели она с трудом может ходить?
Но решение, твёрдо засевшее в голове, не подлежало обжалованию. Это нужно сделать сегодня.
Или скоро за Таней отправится и она сама.
Но нет. Не одна. Нет.
Она не может. Настя не заслуживает смерти.
Была ли Настя в трапезной зале или её не было? Мог ли Володя или его прихвостни остановить ту расправу, что Маришке учинили остальные? Он был среди них?
Он ненавидит её? За что?
«Уже не важно».
И всё-таки перед мысленным взором без конца возникала одна и та же картина: как Володя просто стоит и наблюдает за избиением, затерявшись в толпе. Не желая пойти наперекор толпе. Не желая рисковать больше своим здесь положением.
Как же гадко.
А он? Заслужил ли он того, чтобы умереть?
В комнату Настя так и не вернулась, и от того подозрения, что она действительно была вместе со всеми в трапезной, только усилились.
Наверняка теперь она попросту стыдилась остаться с подружкой наедине. Предпочитая сидеть подле Александра. Конечно. Вот где Настя была.
Маришка хотела пойти искать её. Она не может просто вот так здесь её бросить. Но…
Эта затея грозила большими проблемами, попадись она смотрителю, разгуливая по усадьбе в то время, когда обязана смиренно молиться в своей комнате до мозолей на языке.
Времени ждать уже не оставалось. Бежать надобно было сейчас. Как можно скорее, пока окончательно не стемнело.
Багаж был уже собран. И собственный, и даже Настин. Она услужливо затолкала всё в её сумку. А собственные небогатые пожитки, кроме разве что дневниковой тетради, уместились в старый, потёртый чемоданчик.
Ветер сменил направление, и снег забарабанил по стеклу. Будто сама зима настойчиво стучала в окно, желая прорваться внутрь. От того звука сделалось не по