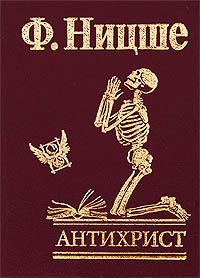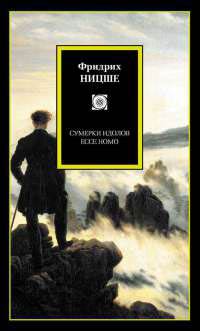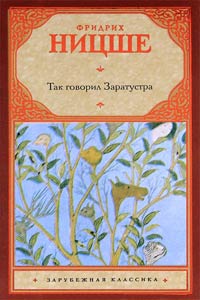задерживать, говорили люди Хани, стискивая ее руку. Но сначала: не думает ли она, что всем было бы лучше в офлайне? Без всякого интернета, и точка? Так, как жили в двадцатом веке?
Хани выслушивала доброхотов с большим интересом и читала между слов крик души: все жаждали появления лидера, который поможет им сбежать от интернета. Америка нуждалась в отступнике от сетевой религии, святом покровителе приватности. И если она возьмет на себя такую роль, ей наверняка не придется возвращаться в Западную Виргинию.
Так что, когда журналисты спрашивали про Марлоу, Хани делала резкий разворот. Она рассказывала, как мечтала стать такой же известной, как дети в Созвездии, как купилась на распространившуюся после Утечки пропаганду — жизнь онлайн теперь благо, жизнь онлайн теперь безопасна. Она высказывала сомнения в том, что правительство лучше защищает данные, чем делали это до Утечки «Фейсбук», «Твиттер», банки и страховые компании. Слово «приватность» она использовала снова и снова; иногда просто твердо говорила: «Приватность — хорошо, Сеть — плохо». Повышая голос, чтобы слушатели забыли о ее нежном возрасте, произносила: «Единственный способ убедиться, что сведения, которыми вы делитесь с правительством, защищены, — это не делиться ими с правительством вовсе».
И это сработало. Она была юной, голубоглазой, воинственной и недавно изуродованной, и люди называли ее храброй. Говорили, что она задает вопросы, которые и им тоже приходят в голову. Хани приглашали выступить в клубах для трудных подростков, посетить званые вечера, посидеть на заседании совета в качестве почетного младшего члена в различных благотворительных организациях. Каждый вечер на кабельном новостном канале ей предоставляли час, чтобы покричать в камеру. Ее имя появлялось в списках самых заметных людей года.
— Мое, — сказала она Марлоу, тыча себя во вторую пуговицу пижамы, — мое.
Нуждавшаяся в деньгах женщина с детьми быстро написала от лица Хани книгу, и Хани усиленно продвигала ее как свою. Она вела программы с караоке поздними вечерами и детские передачи, в которых дроны забрасывали ее липкой зеленой массой. Но в основном она повторяла и повторяла свою основную мысль, пока не стала больше, чем звездой, — не просто человеком, на которого смотрят, а человеком, которому подчиняются.
Как-то раз руководитель телесети, передающей передачу с ее участием, пригласил Хани погостить. Они с женой жили в Сентрал-Парк-Саут.
— У меня была собственная ванная, — сказала Хани. — Прямо крышу сносило от этой ванной.
У пары не было детей, и, хотя Хани уже исполнилось семнадцать лет, они официально ее удочерили. Она звала их папа Боб и мама Бринн. Двадцать первый день рождения Хани отмечала в отеле «Плаза». Отказали ей приемные родители лишь однажды — когда она хотела сделать пластическую операцию. Мама Бринн коснулась шрама и сказала: «Дорогая, это часть твоей личности». Папа Боб был менее деликатен.
— Он выразился в том духе, что это моя торговая марка, — объяснила Хани. — И с тех пор так оно и есть.
Сейчас, поскольку Хани не умылась после вечеринки, Марлоу заметила, что она наносит макияж вокруг шрама, а не поверх.
— Зачем ты мне все это рассказываешь? — поинтересовалась Марлоу.
Хани посмотрела на нее таким пронзительным взглядом, что Марлоу вздрогнула.
— Я пытаюсь показать тебе, как много усилий мне пришлось приложить, чтобы заслужить славу, которая тебе досталась просто так, — прошипела она. — Ты получила миллионы подписчиков только потому, что росла в определенном районе. Ты ничего для этого не делала. Так что да, Марлоу, конечно, некоторые мои фанаты, кто хочет перейти к частной жизни, кто приходит на мои вечеринки — вроде того господина, с которым ты оказалась в ванной… — Хани устало выдохнула, — они предпочитают традиционные ценности. Безусловно, приватность привлекает тех, кому есть что скрывать. — Она наклонилась к Марлоу и ткнула ее пальцем в грудь. — Но это движение, эти люди, мое место в этом мире — все, что у меня есть, Марлоу. Так что если я вдруг вижу другие пути, то действую не раздумывая. Разумеется, как говорили у нас в католической школе, моя душа не столь бела и чиста, как бутылка молока. Но меня устраивает небезупречная жизнь, Марлоу. Пара пятен — небольшая цена за то, что я имею.
Марлоу хрипло засмеялась, и у нее даже запершило в горле.
— Как ты можешь жить с пятнами на душе? — переспросила она. — Ты не выносишь даже пятен на диване.
К ее удивлению, а потом и ужасу, Хани тоже засмеялась.
Дрон маневрировал между зданиями. Шпили наводили Марлоу на мысль об иголке в волшебной сказке, где принцесса уколола палец и заснула на много лет, то есть пропустила всю жизнь.
— Ты еще общаешься с приемными родителями? — спросила она.
Хани быстро повела рукой, указывая на здания внизу.
— Нет, — коротко ответила она. — Помутнение. Они в интернате.
— Мои тоже, — сказала Марлоу. — Точнее, отец. Он уже давно потерял связь с реальностью. Матери получше. Она может жить одна.
Хани покачала головой.
— Странно это происходит, — проговорила она, и Марлоу уловила дрожь в ее голосе. — Мама Бринн выполняла все, что было предписано для профилактики: медитации, маски на глаза, настольные игры. Питались мы всегда одной сладкой картошкой. Она даже не смотрела на экран будильника. А вот папа Боб никогда не следовал рекомендациям. Он пользовался своими экранами, пока однажды не забыл, как это делается. Но закончили они совершенно одинаково.
— Они едят? — спросила Марлоу. — Мой отец нет. Мне даже иногда представляется, как он жует сэндвич или уплетает большую тарелку супа — как приятно было бы на это смотреть. — Лицо у нее вдруг вспыхнуло. Она много раз хотела признаться в этом матери, но так и не нашла возможности сделать это при выключенной камере. В эфире она не могла о таком говорить — Астон был бы унижен в глазах всего мира.
— Я не знаю, едят они или нет, — вздохнула Хани. — Никогда их не навещаю. Они все равно меня не узнают, и не забывай, что я… — Она вызывающе подняла глаза на Марлоу, чтобы предупредить осуждение. — Однажды я уже потеряла родителей. Пройти через это дважды невыносимо.
Марлоу отвернулась и посмотрела прямо на статую. Она не догадывалась, что дрон подлетел так близко. Припыленный целомудренный взгляд женщины заполнил ветровое стекло, один пустой глаз уставился на Марлоу, другой на Хани.
— Мне очень жаль, Хани, — произнесла Марлоу. Эти слова были уместны при упоминании потерянных родителей. Но Марлоу сказала их не ради пустой формальности. Она провела всю жизнь, защищаясь от обвинений в укусе: «она меня спровоцировала, я была вынуждена, руки у меня были в буквальном смысле связаны». Но теперь, когда она повзрослела и смогла узнать