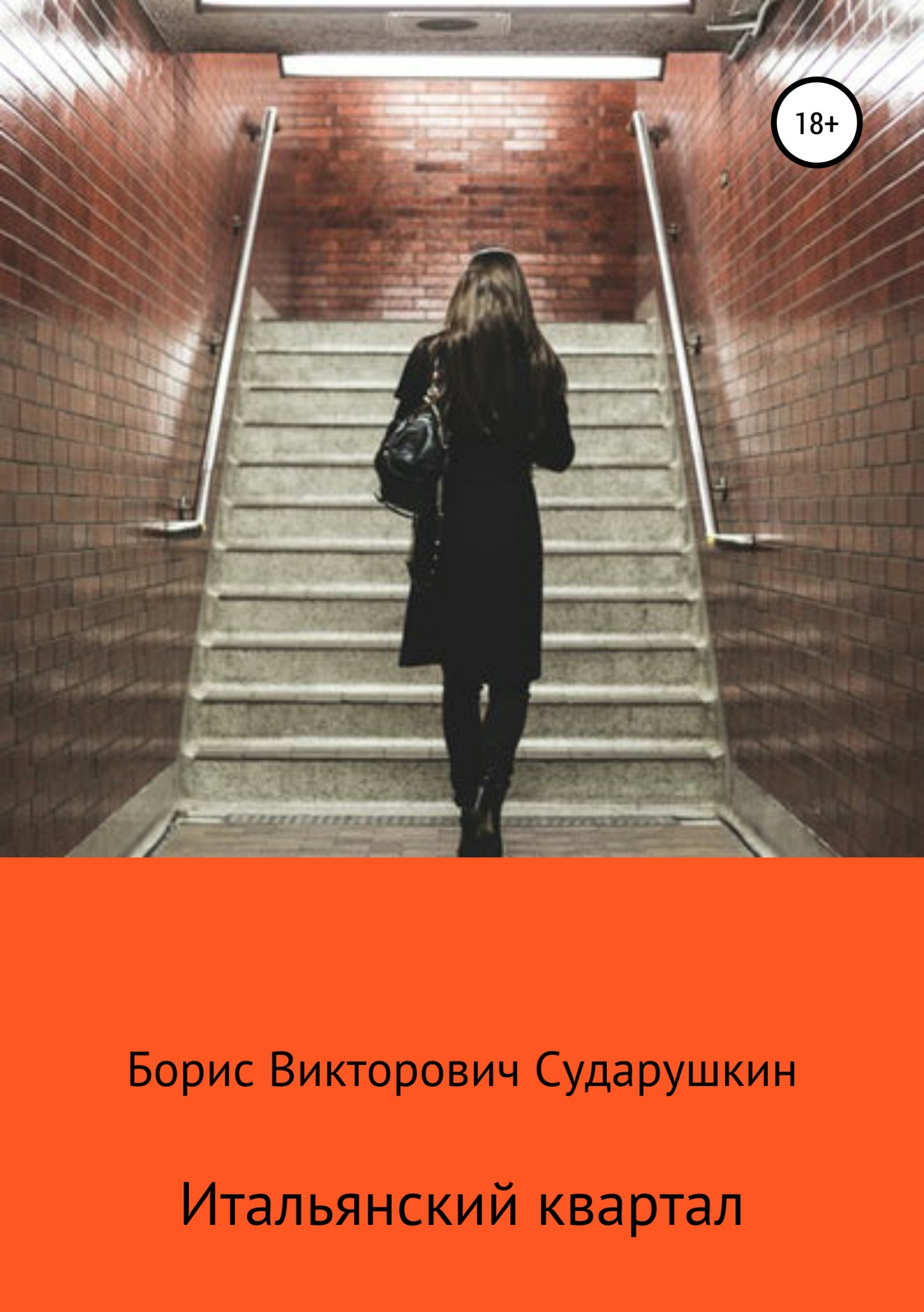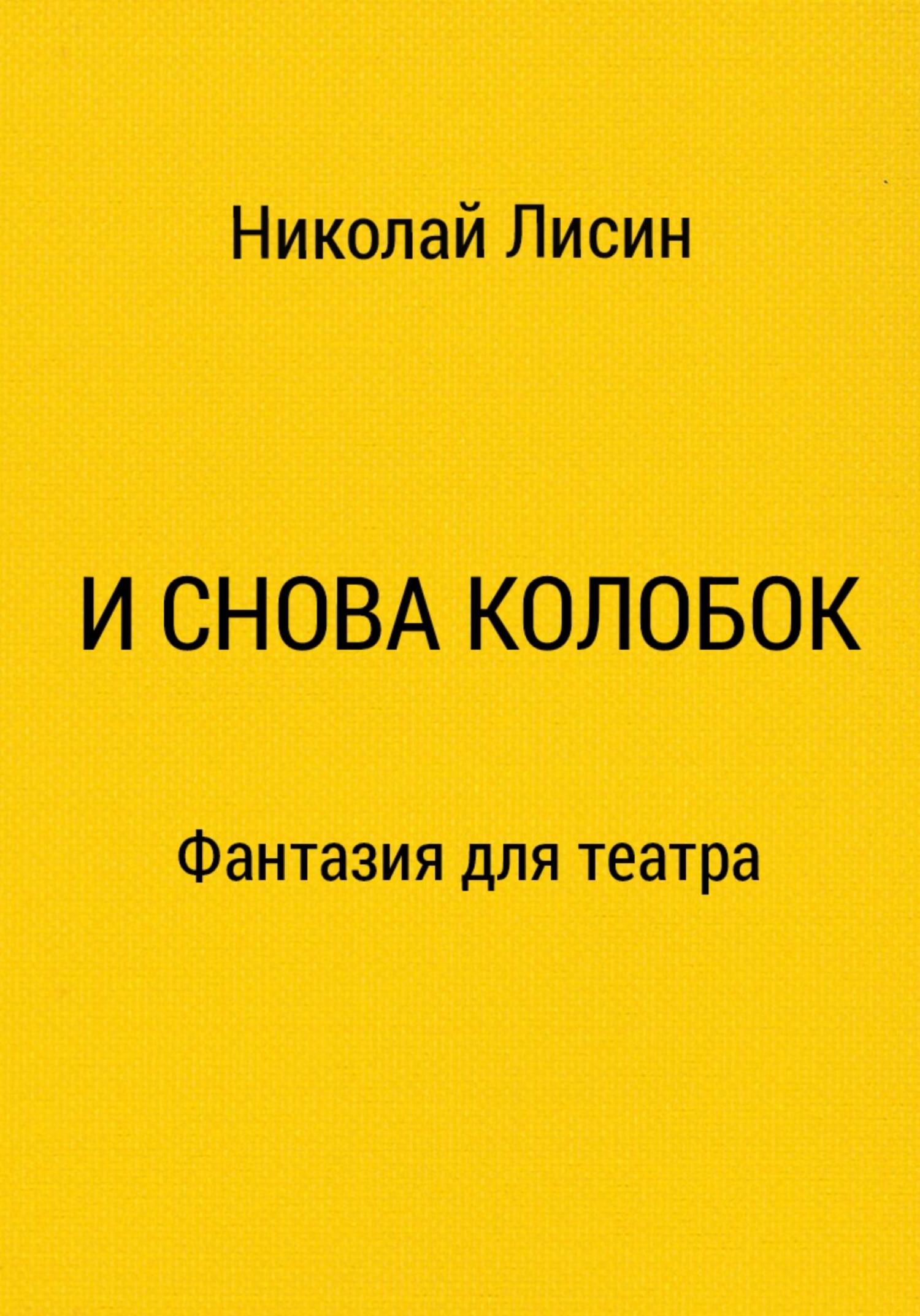чего наконец отослал помощников. Чистить кишки было исключительно его работой. Он ни в коем случае не собирался рисковать: на кону репутация.
– Пора выпить кружку темного, самое время! – заорал он вслед Виктору и Семи, а потом захлопнул дверь.
День забоя подходил к концу. Через час стемнеет, но к этому времени кишки будут вычищены. Остальное можно доделать и при свете керосинового фонаря.
Хозяйка усадьбы готовила тесто для лапши, когда Виктор и Семи уселись за кухонный стол, чтобы отдохнуть. В воскресенье был престольный праздник, а ее лапша всегда пользовалась большим спросом в качестве десерта после традиционного гуся.
Лапшу выкладывали на тарелочки, густо посыпая сахарной пудрой, и подавали кофе, в который гости макали лапшу, а потом с удовольствием обсасывали. Белые усики из сахарной пудры ненадолго придавали шаловливость строгим лицам знатных господ и подчеркивали заурядность обычно благородного выражения их лиц: во всей полноте обнажалась совершенная по форме алчность. Просвещение должно было касаться и праздничной лапши.
☨
На следующий день Семи отправился обратно в интернат. Утренним восьмичасовым автобусом он доехал до Зеештадта, а оттуда местным поездом до Мюнхена. Там нужно было два часа ждать поезда до Оберграбенкирхена и три с половиной часа добираться до Хохландталя под Унтер-штайнсдорфом. Наконец, еще час Семи провел в автобусе, который ехал над горным ущельем по прямой дороге, ведущей в Фельзенкессель, где в тени гор Картайзерберг стоял, словно средневековая крепость, интернат для мальчиков «Святая кровь». Иезуитский монастырь уже девять лет обеспечивал Семи пропитанием, жильем, школьным образованием и разнообразным опытом.
К тому времени, как Семи около восьми вечера добрался до цели и доложил монаху-привратнику, что вернулся с каникул, уже стемнело. Бросив несколько ничего не значащих фраз, успокоивших сомневающегося монаха, Семи отправился в свое жилище на втором этаже восточного крыла – уже не общую спальню, а комнату на четверых, – разложил в шкафу привезенные выстиранные вещи и вышел. Он сделал небольшой крюк через темную столовую и дочищенную кухню, уже во второй раз миновал привратника, снова дружески его поприветствовав, и направился прямиком в подвальчик Ауэра на противоположной стороне улицы. Там вокруг стола для завсегдатаев из интерната уже собрался костяк выпускного класса. Парни пили алкоголь и курили сигареты без фильтра. Семи присоединился к ним, заказав пиво и фруктовый шнапс.
– Может, ну так, случайно, кто-нибудь прихватил мой ужин? – очаровательно изображая рвотный рефлекс, спросил он у подвыпившей компании. – Жрать хочу, умираю, а столовая, конечно, уже закрылась, во всяком случае, так уверяет этот олух у ворот.
– В половине седьмого! В половине седьмого ужин заканчивается, – назидательным тоном заявил Абрахам, придав лицу и голосу пасторскую строгость. – По воскресеньям всегда в половине седьмого. Мы, угольные мешки, тоже имеем право на воскресный отдых. Для этого мы молимся за вас всю неделю и обрызгиваем святой водой, – он сложил руки и тут же поднял в благословляющем жесте. – Отпускаю тебе грехи, – сказал он елейным голосом, – отпускаю грехи тебе, а также нашим твердым членам и набитым брюхам.
Потом он поднял глиняную пивную кружку над центром стола.
– За покаяние до дна!
Кружки со стуком столкнулись, и воспитанники интерната выпили, сопровождая глотки́ отрыжкой.
С серьезным выражением на лицах парни тут же хором обратились к обслуживающей их молодой пухленькой крестьянке, которая была невинна и неповоротлива, как теленок:
– Пива, водки и поцелуй от красотки!
Краска невинного стыда предсказуемо залила щеки девушки, которая, осчастливленная, собрала пустые кружки и, прижав к груди, понесла их на стойку, чтобы снова наполнить – картина Брейгеля, ни дать ни взять.
Семи вышел в туалет и стал большими глотками пить воду из-под крана. Опершись на рукомойник, он злобно смотрел в зеркало. Семи тянул ртом водопроводную воду, пока его не вырвало, и затем вернулся к компании, чтобы продолжить праздновать воскресный день.
Уже подоспел новый заказ, дополненный шнапсом и окутанный дымом, как нечто запретное. Над столом низко склонилась хозяйка, женщина лет сорока. Чтобы защитить невинность миленькой крестьянки, она велела ей возвращаться домой, под родительский кров. Хозяйка вытерла фартуком пивную пену с полированного стола из бука и нарисовала карандашом линии и крестики на подставках. На лицах парней читалась похоть. Томление и надежды были растерянно и безысходно направлены на тяжело вздымающуюся грудь зрелой женщины.
– Аккуратнее, парень, не то глаза убегут и слепым останешься, – предостерегла хозяйка одного так, чтобы услышали все. Женщина, как и девушка до нее, забавлялась, но если девушка смущалась, то хозяйке все это скорее докучало.
– А нет ли чего-нибудь перекусить, хозяюшка? – громко спросил Семи. – Мне ничего не досталось, все уже закрыто.
– Могу принести сосиски, много времени не займет, а к ним картофельное пюре и капусту.
– Неси. То, что надо.
И снова руки протянулись к центру стола, кружки соприкоснулись, стукнули друг о друга. И снова пили до дна… и еще, и еще… как обычно.
В промежутках Семи отправлялся в туалет, следил, чтобы никто не вошел за ним, и пил воду из-под крана, пока его не начинало выворачивать.
В четвертый раз он отсутствовал дольше – то время, которое обычно требуется пьяному, чтобы справить нужду. Так, во всяком случае, позднее хозяйка заявила полиции. Выпив в пятый раз, компания разошлась. Почти мужчины, но при этом еще дети, они были безнадежно пьяны.
Только один из них был трезв, и разум его оставался прозрачным, как выпитая вода. Пошатываясь, как и остальные, Семи побрел в ночь.
Следующим утром Эзехиля хватились. К нему в келью долго и безуспешно пытались достучаться, а взломав дверь, обнаружили части тела пастора по всей комнате: одни были мелко нарублены, как на гуляш, другие представляли собой целый кусок, отделенный от туловища. Голова без глаз стояла, опираясь на челюсть, на ночном столике; во рту лежал отрезанный пенис, сморщенный, как лоскут кожи. Голову украшали кишки наподобие гигантского парика. Живот пастора был выпотрошен. Внутри лежавшего на полу туловища между ребрами виднелась у комка сердца мошонка, похожая на жабу, подстерегающую добычу. В правом плече торчал нож. Запах стоял ужасный.
Нож был из монастырской кухни. Этим большим ножом для мяса редко пользовались. Отпечатки пальцев отсутствовали. Кухарка уверенно утверждала, что, когда она в половине седьмого вечера уходила, предварительно убрав кухню, нож стоял на полке для ножей у стены.
Преступник определенно знал свое дело, работал быстро и точно. Не похоже, что он получал удовольствие от убийства, скорее следует говорить о «бесстрастном процессе расчленения тела жертвы». Так написал в отчете судмедэксперт.
Полиция вела допросы несколько недель. Подозрение падало то