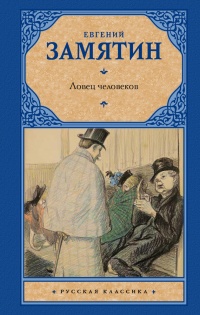Мы занимались ночь, и день, и снова ночь, и к концу занятий я разучился говорить даже по-русски. А потом зима прошла, и моя возлюбленная перестала спрашивать, хочу ли я зайти, и однажды я зашел к ней без спросу — и был представлен добродушному мужику в свитере, просторно расположившемуся в кресле, где раньше сидел я.
Так все это и закончилось. И никакой любви там не было отродясь — просто мне только исполнилось восемнадцать, а у нее на ту зиму пришлась пауза в личной жизни. И все это так банально, что не о чем и говорить — но почему же сладко ноет сердце, и я отсчитываю этажи серой девятиэтажки, чтобы найти ее окно на шестом?
Энергичная женщина быстро отпирает низкие ворота морга. Мы входим и останавливаемся у огромного, заколоченного в деревянные брусья цинкового ящика.
— Он здесь, — говорит Лев Яковлевич.
Ольга Алексеевна стоит во дворе, прислонившись к машине.
— Ты посиди немного, Оля, посиди! — махнув рукой, кричит Пашин отец и поворачивается к нам: — Давайте снимать цинк.
Он торопится все время, он боится хоть на секунду остаться без дела.
— А там, внутри, деревянный есть?.. — Слово «гроб» я произносить боюсь.
— Есть, — отвечает бородач.
Я выхожу на воздух; два мужичка в ватниках нараспашку молча стоят у самых ворот.
— Мужики, — спрашиваю я, — инструмент есть какой-нибудь?
Коротышка старательно ковыляет за угол. Другой, худой, прокуренный до серых щек, коротко спрашивает, чуть погодя:
— Афган?
— Нет, — говорю я, отсекая расспросы.
— А эта, у машины — мать?
— Мать, — говорю.
— Ах ты…
Из-за угла ковыляет коротышка.
— Вот…
Лицо у коротышки сморщенное, глаза слезятся. Он немного пьян.
Мы высаживаем мощные бруски, и бородач, завладев ножницами, начинает взрезать цинк. Взлетает к низкому потолку и начинает качаться в тесном кубе морга жуткое «цви-уинь», и, унимая этот невыносимый звук, мы с Пашиным отцом разом хватаемся за раскромсанный край ящика.
— Консерва дурацкая, — шепчет он. — Вот черт возьми.
Мы осторожно вынимаем гроб и вносим его в уазик. Там, улучив момент, я шепчу бородачу вопрос, мучивший меня все это время:
— Открывать будем?
Он строго смотрит на меня:
— Не надо.
— Что? что?
— Я думаю, Лева, ведь открывать не надо? — повторяет бородач, глядя на меня досадующим взглядом.
Лицо у Пашиного отца каменеет.
— Я хочу посмотреть на него.
— Не надо, Лева.
Ища поддержки, Лев Яковлевич смотрит на меня; в глазах его светится огромная, какая-то совершенно собачья тоска.
— Наверное, действительно не стоит… — мямлю я.
— Я хочу — на него — посмотреть.
— Хорошо, — говорит бородач. — Только…
— Да. Без нее.
Боясь задеть Пашину голову, я ломиком поддеваю крышку. Мы снимаем ее; я вижу лицо Льва Яковлевича и быстро отхожу, как будто самое важное сейчас — сразу отдать ломик.
Коротышка в ватнике по-прежнему стоит у дверей морга, но уже один. Он смотрит не отрываясь. Маленькое лицо болезненно сжимается, словно в каком-то странном тике. Он поднимает на меня глаза, и я вижу, что коротышка плачет.
Ну ясно, пьян в дугу.
Я лезу в карман за трешкой из бумажного комка, сунутого мне бородачом на все эти дела, и сую ему. Коротышка мотает головой.
— Бери, отец, бери, — уже раздражаюсь я.
Коротышка мотает головой; слезы без остановки бегут по его щетинистым щекам. От уазика отбегает Лев Яковлевич, не оборачиваясь, машет рукой: заколачивайте!
В машину с Пашиным телом сажусь я и, сев, сразу кладу руку на гроб, чтобы не очень трясло Пашу, когда поедем. В маленьком окошке исчезают больничные корпуса, деревья и плачущий смешной коротышка в ватнике нараспашку, ковыляющий вслед. Коротышка машет рукой и что-то говорит, говорит…
Дорога до кладбища неблизкая. Я смотрю, как мотается по полу упавшее ведро. Наконец ведро ударяется в гроб, и, пробравшись вперед, я заклиниваю его под сиденьем.
В голове пустота — просто еду, жду конца дороги. Паши больше нет. У моих ног в обтянутом тканью