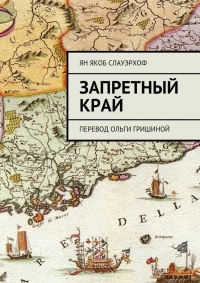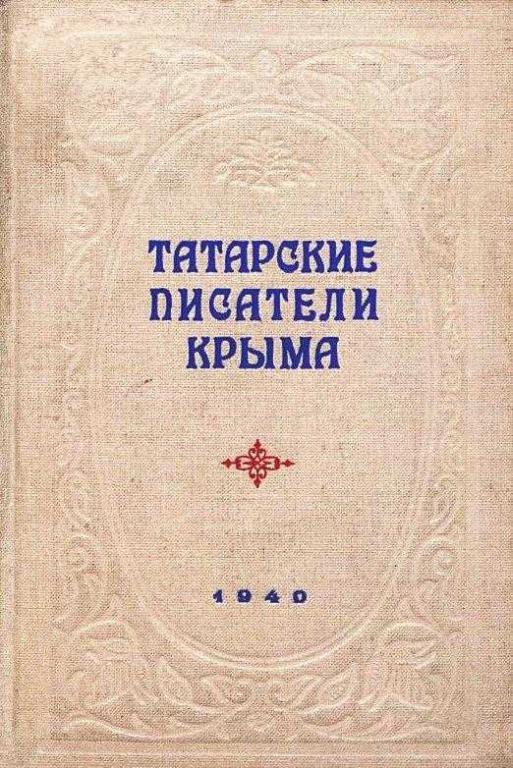возвратится Егор. Чачи мне сказала, что он должен скоро вернуться.
— Писал, что вернется в мае. Ведь он где-то далеко, в Сибири.
— Зинаида Васильевна, разрешите мне пожить несколько дней в школе. Я не хочу пока показываться на глаза людям, хочу отдохнуть в тишине.
— Живите, сколько хотите, Григорий Петрович, и чувствуйте себя, как дома.
— В ближайшие дни я думаю сходить с Чачи к моим родителям. Надо познакомить Чачи с ними.
— Разве я тебе не писала, Гриша, — вмешалась в разговор Чачи, — что прошлым летом я две недели гостила у твоей матери? Мы с ней эти две недели жили душа в душу. А теперь-то уж, если даже захочешь один уйти, я все равно за тобой пойду. Куда ты, туда и я. А то что это за муж и жена, которые живут врозь? Теперь я всюду с тобой.
Григорий Петрович не возражал.
8
Концентрационный лагерь, в котором находился Сакар, располагался среди открытого поля. Вокруг лагеря ограда из колючей проволоки высотой в четыре аршина. За колючей проволокой — глубокий ров, за рвом — земляной вал, по которому днем и ночью ходят часовые.
Посреди лагеря рядами стоят земляные бараки. В каждом бараке ютится по сто человек. Печей в бараках нет. Вместо окон — два небольших застекленных отверстия возле двери, через которые в барак еле-еле пг-обивается свет. На расстоянии двух вершков от пола, вдоль стен, поставлены пары. На этих нарах вповалку спят пленные.
Всего в лагере народу около десяти тысяч. От постоянного недоедания все очень исхудали — кожа Да кости. Да и как не исхудать, когда на день выдают всего по полфунта хлеба.
Утром, после того как пленные попьют жидкого чая, приходит немецкий фельдфебель с дымящейся сигарой во рту. Пленных окружает конвой и, подгоняя, выводит их из лагеря.
С лопатами на плечах, уныло опустив головы, медленно бредут люди на работу, словно они идут рыть могилы самим себе.
Одним летним утром семнадцатого года в лагерь пригнали сотен семь пленных французов Французы, устроившись в бараках, вышли поговорить с русскими.
— Рус, рус! — кричали французы и звали их к себе.
— Мусье, мусье! Француз, француз! — отвечали с русской стороны. Некоторые подходили к французам, рассматривали их.
— Корошо, рус! Камрад! Товарищи! Наполеон — Моску — Толстой! Бонжур! Вив, ля рус! — смеялись французы.
А иные кричали:
— Америк! Керенски! Галици!
Сакар из всего, что говорили французы, понимал три слова: корошо, рус, товарищ. Да еще Москву они называют, совсем как марийцы — Моску. Наполеон и Толстой, Керенский и Галиция — для Сакара пустые звуки.
А среди русских пленных уже заговорили о том, что глава нового российского правительства Керенский отдал приказ о наступлении в Галиции и что ему окажет помощь Америка.
— Ежели Америка вступила в войну, то немцу скоро капут, — слышались разговоры.
— Скорее бы война кончилась, скорее бы домой…
Прошел день, другой, прошла неделя. Война не кончалась. Потом стали говорить, что Америка почему-то не может оказать серьезной помощи, а в Галиции немцы побили русские войска.
Жизнь потекла по-прежнему.
Однажды утром у Сакара так разболелась голова, что он не мог терпеть, и, присоединившись к другим больным, пошел в околоток.
Околоток размещался в парусиновой палатке за лагерем.
В палатке, было много больных и раненых с гноящимися ранами. Когда санитары отдирали присохшие грязные бинты, от ран шел тяжелый смрад, в бинтах кишели вши. Сакар такого никогда прежде не видывал.
Каждый день из разных бараков в околоток приходят на массаж инвалиды. Посмотришь на них, и жутко становится У одного изувеченная рука скрючилась, как корявый сук, у другого — нога; у третьего выворочена челюсть, у четвертого лицо изувечено… Увидишь их и подивишься: как они только остались живы?..
Посмотришь на изувеченные головы, на черные ямы вместо глаз, на обрубки ног и рук и подумаешь: «Эх, друг, сколько же тебе муки придется вытерпеть! Уж лучше бы умереть, чем жить таким калекой…»
Попадались среди больных, и такие, что сошли с ума. Один поляк в углу, не умолкая ни на минуту, бормотал:
— Пан Езус! Матка бозка! Пан Езус! Матка бозка!
Голос поляка становился все тише и тише.
«Наверное, до утра не доживет» — подумал Сакар. Ему вспомнилась смерть матери, и он, вздохнув, проговорил:
— Видно, у бога других забот полно, некогда ему слушать наши молитвы…
А другой помешавшийся — рыжебородый, сгорбленный, как старик, солдат, указывая пальцем на всех проходящих мимо него, выкрикивал:
— Вот, вот, вот! Вот антихрист!
В сентябре в лагерь пригнали новую партию русских пленных, опухших от. голода, бледных, с жидкими, дав-ро не стриженными, похожими на мочало, волосами.
— Святые! — охнул какой-то солдат, разглядывая вновь прибывших.
А у тех на лицах застыло равнодушие и слепая покорность судьбе. На все вопросы они отвечали кратко.
— Откуда пригнали?
— Из Беловежа.
— Что вы там делали?
— Землю рыли.
Из скупых рассказов измученных людей вырисовывалась страшная картина. В Беловежской пуще русских пленных безжалостно избивают, на работу обессиленных людей выгоняют, словно скот, и люди там мрут как мухи…
Вечером в барак, в котором жил Сакар, зашел один из пригнанных из Беловежа.
— Хоть бы умирать хотел среди свой, — сказал он. — Из наш край кто есть кто?
По нескладной речи Сакар понял, что он не русский. Может быть, мариец? И Сакар спросил его по-марийски:
— Кусо ул ат?[26]
Но он, видно, не понимал.
— Тый откуды? — спросил снова Сакар.
— Я — казанский.
— Мый тоже казанский.
— Какой уезд?
— Царевококшайский.
— А я Чебоксарский… Какой народ?
— Черемис.
— А я чуваш.
— Что у тебя болит?
— Все болит, — вздохнул чуваш. — Не знай, доживу до утра или нет. Видать, придется помирать на чужбине… Дома у меня жена, сын маленький… Не увижу их больше.
— Не убивайся так, поправишься…
— Нет, не подняться мне. Весь я пропитался болотной водой… Руки-ноги стынут… Как дойдет холод до сердца, так помру… Эх, хоть бы одним- глазом взглянуть на Волгу!.. Добрый человек, вернешься домой, скажи моей жене, сынку…
Дальше чуваш не мог говорить, совсем обессилел…
Ночью он умер.
Когда мертвого вынесли из барака, Сакара охватила тоска. «Неужели и мне суждено у-мереть вдали от родных мест?» — подумал он.
А в голове звучали слова питерского рабочего Волкова:
— Царь… Генералы… Купцы.
— Чужганы… Царсвококшайское начальство… Моркинский урядник… — сказал Сакар, как бы продолжая речь Волкова.
Вот кто виноват в том, что Сакару придется сложить свою голову на чужбине. Но нет, нет! Надо все вытерпеть, все перенести — только» бы жить, жить,