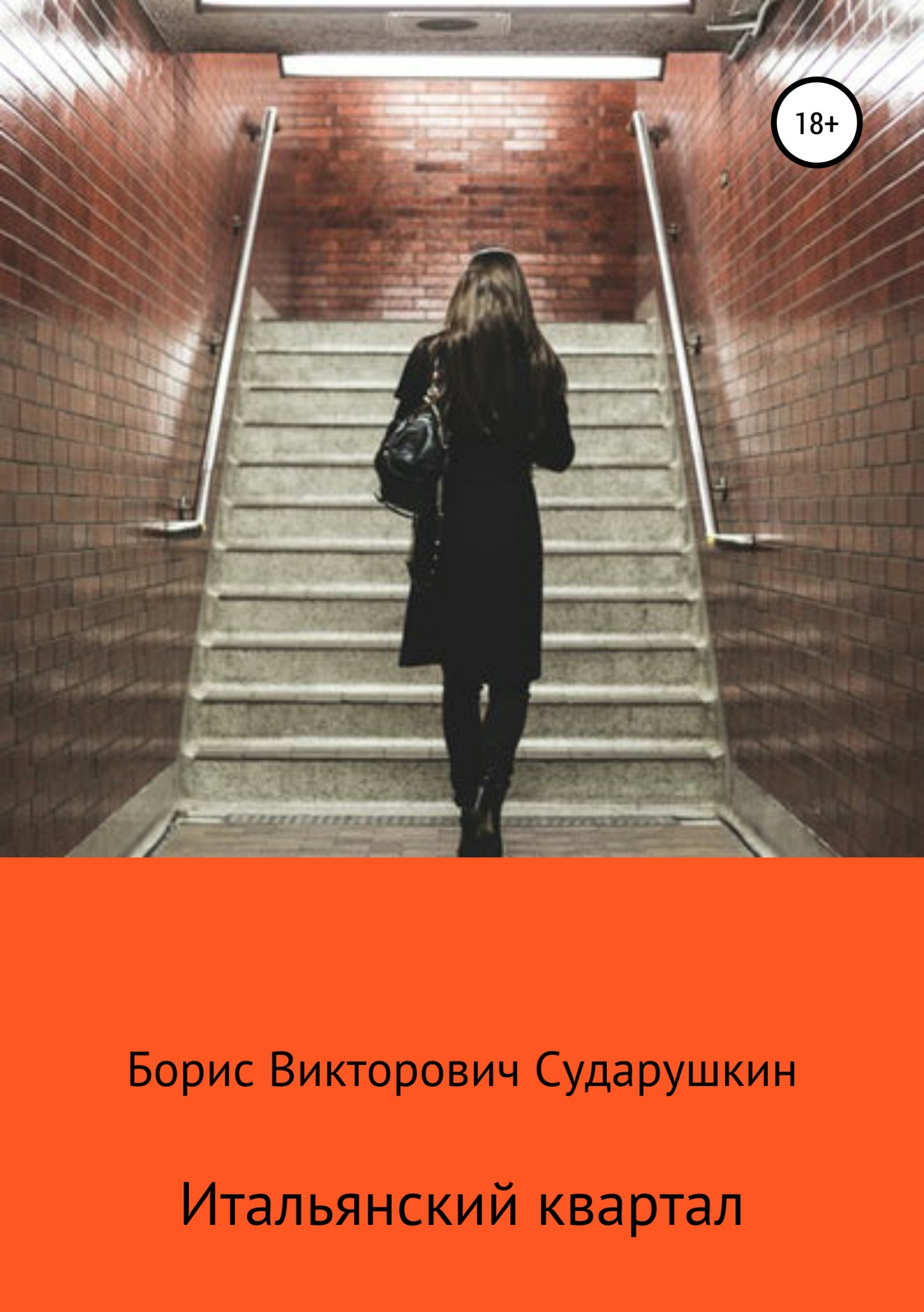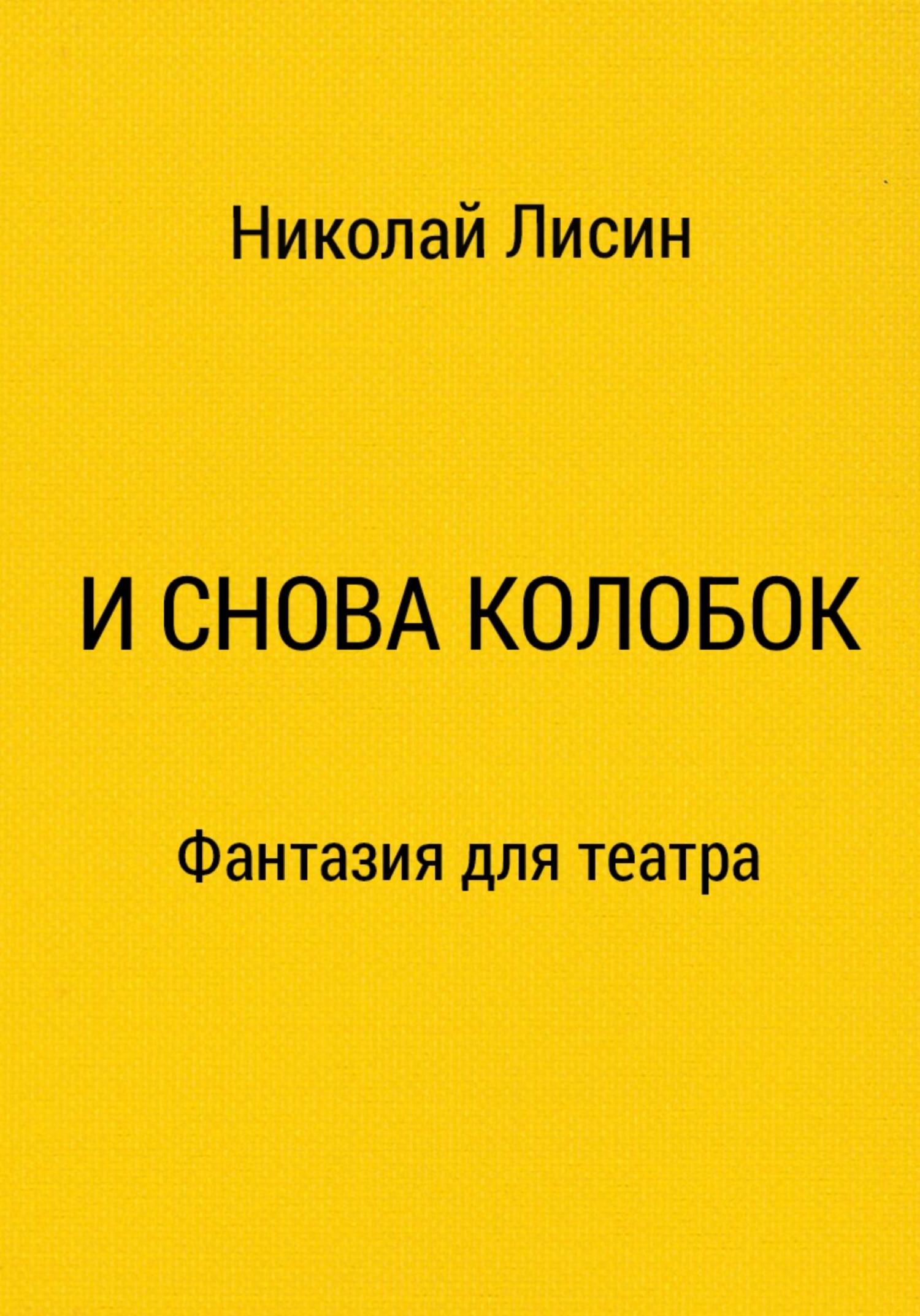На следующий день было назначено партийное собрание, ему надо выспаться и протрезветь. Он всегда сохранял ясную голову, даже если был сильно пьян.
– Я тоже пойду, – буркнул Цубер. Все настроение полетело к чертям. Мюллер Хайнц ушел, а только он и подходил для пикировки. Остальные были скучные и правильные, прямо католики, почти протестанты, даже под хмельком. С ними жизнелюбивый Цубер лишался всякого удовольствия. Нужно было исчезнуть до того, как они затянут его к себе на дно.
У двери он обернулся.
– Смотрите, как бы не заявился пастор и не прочитал бы вам тут у Хольцвирта проповедь, если будете торчать в трактире, как бабы на молитве в Страстную пятницу, лицемерные ссыкуны!
Произнеся это, Цубер ушел. На улице он взгромоздился на мопед и покатил в усадьбу на озере.
На «Цюндаппе» Аист снова почувствовал себя свободным. Встречный ветер овевал тяжелую голову, проясняя мысли. Аист ощущал, как, сидя, сдавливает пенис. Прижатый к бедрам и к сиденью из искусственной кожи, член казался одновременно и родной, и чужой плотью.
Вот бы все представляли собой просто плоть, тогда отпала бы необходимость постоянно приспосабливаться к чужим странностям и причудам, чтобы не вытягивать каждый раз пустой билет. Вот бы оставаться таким, каким хочешь быть или какой есть. Так думал Аист.
Он ехал в Зеедорф, поскольку обещал хозяину усадьбы на озере зарезать откормленную свинью. Поначалу мопед вилял по дороге, но линия движения выпрямлялась.
Когда Цубер на «Цюндаппе» въехал в ворота усадьбы, клетку с растерянной и голодной свиньей уже вернули в хлев. Цубера перестали ждать. Было два часа пополудни, начало ноября. Через три часа стемнеет, а хозяин усадьбы все еще не провел электричество в скотобойню. При свечах же было рискованно заниматься такой тонкой работой, как начинка колбас: ножи остро отточены. К тому же, чтобы вычищать кишки, нужны прекрасное зрение и неусыпная бдительность. Если вычистить не всё, вкус колбас сильно испортится, и работа пойдет насмарку. Недостаток света мог плохо сказаться на мероприятиях после гибели животного в скотобойне так же, как он влияет на рост растений в теплице.
К тому же от хозяина не ускользнуло, что Цубер, судя по всему, не в лучшей форме. На лице сильнее обычного читалось выражение веселого лукавства в сочетании с легкой язвительностью и агрессивностью. Панкрац также заметил, что Цубер, останавливая мопед, с трудом удержал равновесие и едва не рухнул вместе с транспортным средством в куст бузины у стены скотобойни. Хозяйка усадьбы использовала цветы с этого куста, когда весной выпекала во фритюрнице пышки, пользующиеся большим спросом. Хозяин усадьбы с удивлением смотрел, как Аист берет рюкзак с багажника и движется, будто на ходулях, к дверям скотобойни. (У Цукера было округлое, мясистое тело, а ноги отличались тонкостью, напоминая аистиные, из-за них он и получил прозвище.)
– Ты что, правда хочешь сегодня резать свинью, Аист? – с сомнением спросил Цубера хозяин, когда тот молча ковылял мимо.
– Само собой. Ты же ее откормил? Зачем глупые вопросы задаешь? С чего бы я иначе сюда ехал? – раздраженно бросил Цубер. – Выносите клетку! Мне сегодня еще одну свинью нужно прикончить!
– Но дело уже к вечеру, – попытался притормозить его Панкрац, – иди в кухню, пусть хозяйка даст тебе поесть и нальет кружку пива, или даже две, а свинью зарежем завтра. Дело терпит.
Но это не помогло. Цубер будто и не слышал. Достав инструменты, он торжественно и аккуратно раскладывал их на разделочном столе, как всегда, когда предстояла работа: ножи в один ряд, топоры в другой, точильные камни в третий. Вытащил еще не заряженный аппарат для оглушения, проковылял к тлевшей, почти остывшей печи, где стоял вмурованный котел для варки колбас, тяжело, совершив усилие, наклонился к дверце, открыл ее и заполнил печь лежавшими рядом еловыми поленьями. Вскоре в печи затрещало и в топке запылал огонь. Цубер собирался потом подложить еще буковых, чтобы поддержать жар.
Виктор и сын хозяина усадьбы принесли клетку с удрученной свиньей. Цубер протянул последнему ведро, дав понять, что в котел нужно долить воды. «Побольше и побыстрее, – сказал Аист язвительно, – а то до ночи тут провозимся». При забое скота всегда требовалось много воды, причем горячей. Жар – главное условие для превращения мяса из живого существа в продукт питания.
По решительности, с которой Цубер безмолвно и мужественно совершал приготовления, все поняли, что отменившийся было убой все же начался. Никто не решался загадывать, как он закончится.
– Если хочешь, режь сегодня, – вяло сказал Цуберу стоявший у двери хозяин, – на меня не рассчитывай, я уже не могу поднимать тяжести. Господин Хануш и Семи тебе помогут, они много раз видели, как забивают свиней, и всё умеют.
– Когда уже операция? Заметно, что ты прихварываешь. Бывало, ты выглядел и получше, – Цубер сердобольно посмотрел на хозяина, не отрываясь от приготовлений.
– Когда? На следующей неделе, наконец-то.
Хозяин выглядел посеревшим и слабым, исхудавшим и нерадостным. По ночам он уже не мог спать, боли в тазобедренных суставах поднимали его с кровати. Днем он еле ходил, тихонько постанывая. Ему было так плохо, что, казалось, легче умереть, чем ждать, пусть даже недолго, но на следующую неделю наконец назначили операцию в больнице Красного Креста в Мюнхене, и он собирался дотерпеть. Жена добилась от Панкраца этого обещания, и лишь оно удерживало его. Он много раз повторял ей, что иначе уже не ручался бы за себя.
– Вот как, – заинтересовался Цубер, начав точить первый нож, – и что будут делать? Перережут тебя посередине, выше бедер, смажут старые кости солидолом, а потом снова прикрутят части болтами, или как?
– Да, тебе хорошо смеяться, – кротко ответил хозяин. – Пока сам не почувствуешь такую боль, не сможешь это представить. Перерезать не будут. Разрежут, это да. Поставят искусственный сустав, и готово. Потом реабилитация. Когда она закончится, я снова буду помогать тебе резать свиней. Только они никогда такого не делали. Со мной будет первый раз. И это риск, но мне наплевать. Если что-то не заладится, останусь парализованным, тогда хоть болеть ничего не будет.
– Так ты подопытный кролик! Ну и ну! – Цубер пренебрежительно взглянул на хозяина. Он ни за что не пал бы так низко, не превратил бы собственное тело в лабораторию для удовлетворения чужого любопытства. Это казалось ему невообразимым. Врачей он воспринимал как людей, на которых можно выместить злость. Чувствуя себя уязвимым маленьким человеком, он стремился показать, что вовсе не намерен млеть перед кем-то, кто лучше него, из уважения и благоговения. Врачи, адвокаты, чиновники – всем им Цубер и