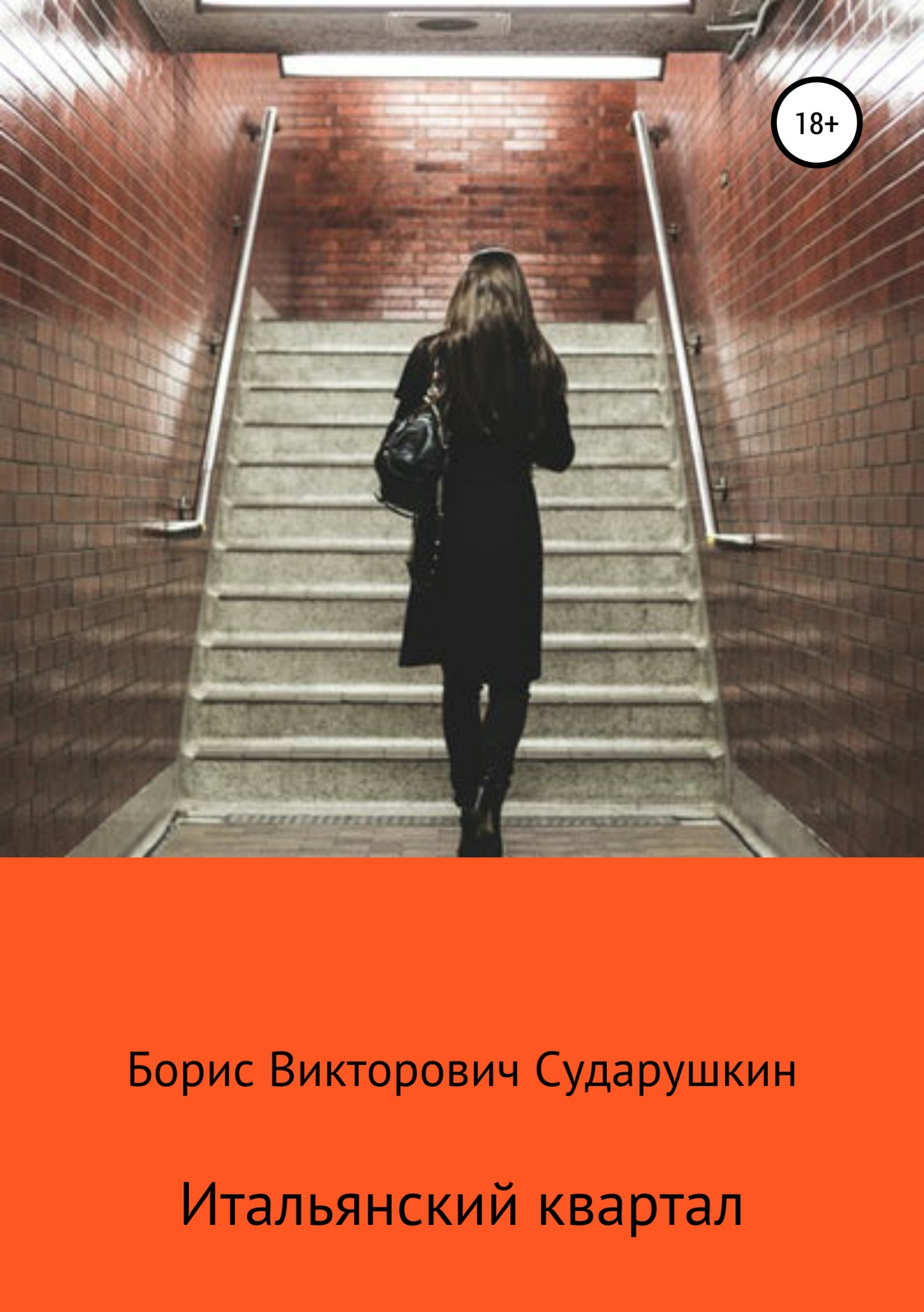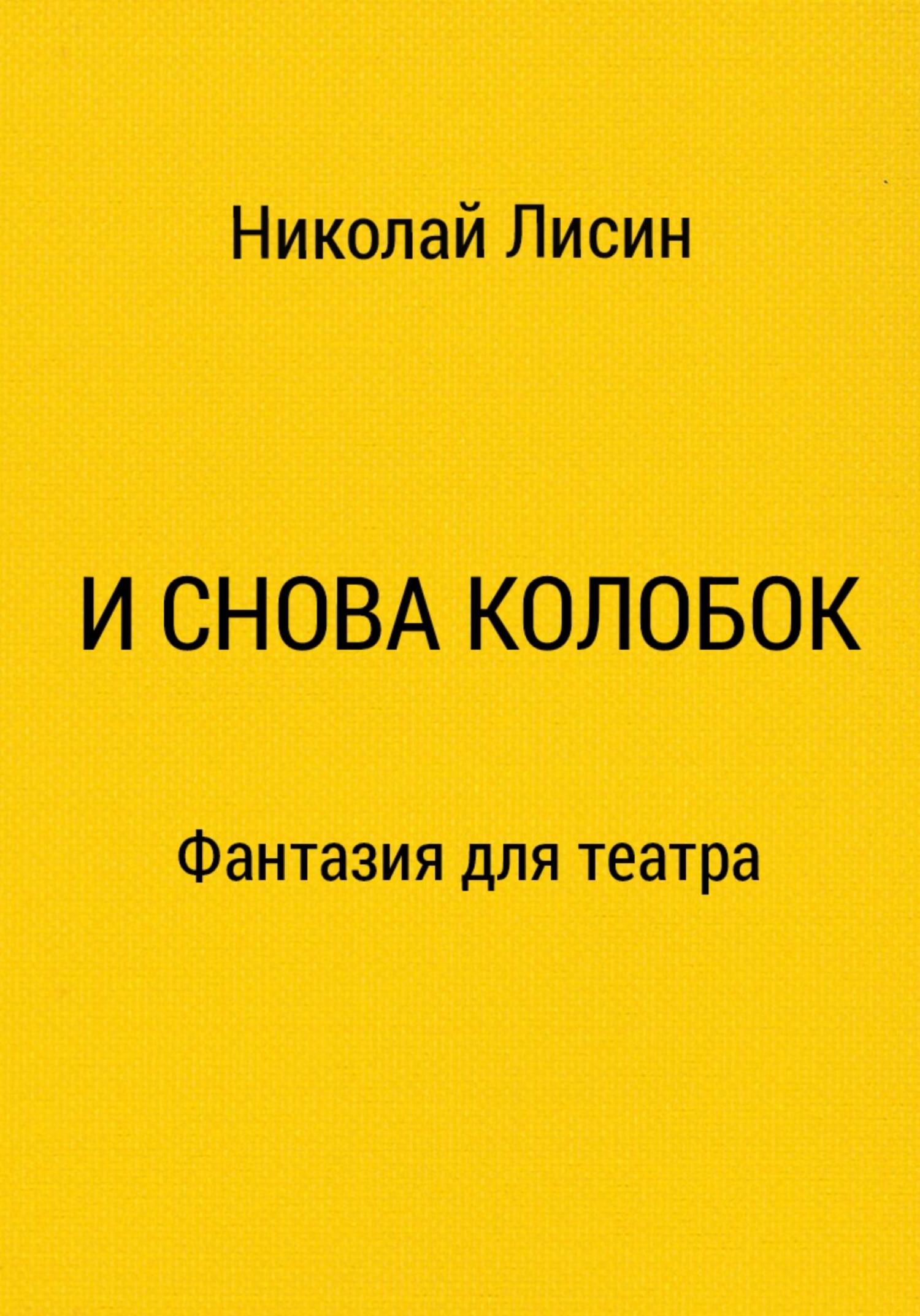class="p1">– А что ты имел в виду, Аист, когда сказал, что коммунисты из «Фольксвагена» хотят с помощью монополии разорить твоего мальчика?
Вопрос задал старый Захер, который год назад передал усадьбу сыну, молодому Захеру, и теперь захаживал к Хольцвирту на кружку-другую не только по выходным.
– А вот что! Когда имеешь что-то, получаешь еще больше. Деньги плывут к деньгам. Вот что я имел в виду. У Бреннера деньжата водятся. Теперь он запускает лапу в карман моего мальчика. И все законно. Под суд Бреннер за это не пойдет.
– Но это же не значит, – продолжал допытываться Захер, – что Бреннер может отнять мастерскую? Вот я про что.
– Нет, нет, конечно, нет! Мастерскую он не отнимет. Ему же должны отстегивать процент, и на этом Бреннер еще больше обогащается.
– Ладно, хорошо. Это я и хотел узнать, – успокоился Захер. – Тогда все не так плохо. А я уж подумал, что они могут у моего мальчика отнять усадьбу и землю. Тогда надо было бы сказать ему, чтобы окружил забором все пашни и луга.
– Ну да, огороди все пашни и луга, – передразнил его Цубер, – тогда никто щавель не украдет! – У него пропало всякое желание вести разговоры о политике с такими никчемными людьми, у кого мозги совсем высохли. – Ханс! Еще двойную водку! – прокричал он в кухню Хольцвирту. – Двойную водку и маленькую кружку пива. А потом буду расплачиваться.
Оживление, поднявшееся было за столом, улеглось, завсегдатаи снова оперлись локтями о стол, навалившись на него всем весом, а взбудораженные мысли потекли по кровеносным путям мозговых извилин и замерли где-то на уровне лба. Все, слегка уставшие, ждали, подремывая, нового подходящего повода высказаться или следующей взрывной шутки соседа.
А если твой… твой мальчик… если он с к-к-коммунистами там… ну… если он один не… не… с-с-справится… в общем… ну, ты можешь… можешь ему взять… хр-р-р-р… в общем, мандат, чтобы его приняли в нашу п-п-п-партию… Да… Можешь взять… Возьмут его или нет… хр-р-р… ну… это не решается б-б-б-быстро. Вот! Ч-ч-чтобы ты знал. Вот. Потому что кр-р-рупных ши-шиш-шишек… так… они обычно не п-п-п-пускают, ну… у нас… и у которых мальчики не п-п-п-п-п… так что знай… ты… ты… ты… там т-т-тоже придурок… хр-рр-ш-ш…
Все смотрели на Мюллера Хайнца. Смотрели снисходительно, безо всякой враждебности. Понимали, о чем он говорит, хотя ему было тяжело высказать свое предложение. Все знали, что Хайнц совсем недавно, когда его уволили с работы, вышел из христианской партии, в которой все они состояли или, по крайней мере, за которую всегда голосовали, и вступил в националистическую партию. Все это знали, но не видели никакой трагедии. Новая национал-демократическая партия, по сути, ничем не отличалась от старой христианской, только была меньше. По этой причине люди и предпочитали оставаться в старой – они хотели принадлежать к большинству. Хотя НДПГ во многих отношениях была лучше, например, гораздо конкретнее высказывалась по ряду вопросов. Захер, говоря о заборе, которым хотел бы огородиться от коммунистической монополии, если коммунисты начнут отнимать собственность, думал про НДПГ. Он представлял себе НДПГ как столбы из колючей проволоки. Эту роль вполне могла сыграть и христианская партия – проволока ведь похожа на терновый венец, – но он предпочел бы прочно стоящие столбы. Впрочем, пока до всего этого не дошло, христианская партия годилась в качестве столбов. Главное, чтобы коммунисты и посторонние не подходили слишком близко.
Все они хотя бы раз, когда нужно было подписать бумагу в каком-нибудь учреждении, срочно купить новые туфли, сходить к врачу или купить запчасти для трактора, видели итальяшек в близлежащем городе. Почти повсюду строились новые дома, в городе и вокруг, там-то и можно было встретить итальянцев: на голове у них волосы были гладкие, зачесанные назад, черные, будто рубероид на крыше, а на груди – курчавые, как у обезьяны. В Зеедорфе же Якль взял подсобным рабочим в строительный магазин грека, он меньше требовал и обходился дешевле, чем безработные немцы с биржи труда, за которых надо выплачивать медицинскую и социальную страховку.
В последнее время итальяшек, или макаронников, как их прозвали, стало попадаться довольно много, в том числе и в сельской местности. И пока НДПГ была единственной партией, выступавшей против такого безобразия. Эти трудовые мигранты представляли угрозу не только на рынке труда и на улицах. Первые ростки изменений наметились и в женщинах, особенно молодых: когда они летними вечерами в уличных кафе косились в сторону итальянцев, сидевших за соседними столиками в розовых и небесно-голубых синтетических рубашках с расстегнутым воротом, откуда торчали черные курчавые волосы, будто кишки из только что заколотой свиньи, в душах отцов и парней бурлили тревога и отвращение. Кавалеры этих молодых дам, одетые в льняные рубашки с таким тугим воротом, что глаза чуть ли не вылезали из орбит, а дыхание напоминало предсмертный хрип, выглядели рядом с итальянцами быками в ярме. А бросить взгляд на то, что открывал расстегнутый воротник черноволосого и кудрявого рабочего-иностранца, для многих молодых женщин было все равно что нечаянно заглянуть в далекий, незнакомый мир… и тогда в них поднималось невообразимое томление, разрастаясь, словно фурункул. Амор!
– П-п-п-п-п-п-п-потому что, потому что т-т-т-т-т-такой п-п-п-п-партии, как наша, больше нет, вот… к-к-к-к-которая, которая, где… где… где… к-к-к-как, как, как… Г-г-г-гитлер… вот! Куда тебе! Вот… Т-т-т-ты придурок. Вот. Куда тебе. Х-х-х-хайль Гитлер!
– Именно так. Хайль Гитлер. Теперь помолчи, Хайнц. Не хватало еще, чтобы он перевернулся в гробу, а свастика, изогнувшись, превратилась в итоге в настоящий католический крест.
Цубер Аист тоже недолюбливал иностранцев. Курчавые волосы у них на груди напоминали волосы на его голове, и идеально светлой кожей Аист тоже не отличался. Почему-то он воспринимал иностранцев как дальних родственников, и это особенно раздражало его, но и лепет Хайнца стал действовать ему на нервы. Вся эта хрень с «хайль Гитлер» позади, – так он думал. Что говорить. Да и доверять никому нельзя, только себе.
Между тем Хольцвирт налил еще кружку светлого и поставил перед Хайнцем.
– Двенадцатая, Хайнц. Тринадцатая за счет заведения.
– Хочешь напоить меня? – завопил Мюллер Хайнц. Он вскочил со стула, словно был трезв как стеклышко. – Со мной этот номер не пройдет! Его ты можешь напоить, – он кивнул в сторону Цубера, – а меня нет! Вот! Запомни! Счет!
Он подошел к стойке, откопал в кармане несколько скомканных мелких купюр и бросил на прилавок.
– Возьми сколько нужно, а остаток верни.
Затем он исчез. Удержать его уже никто не мог. Мюллер Хайнц отправился прямиком домой и лег спать.