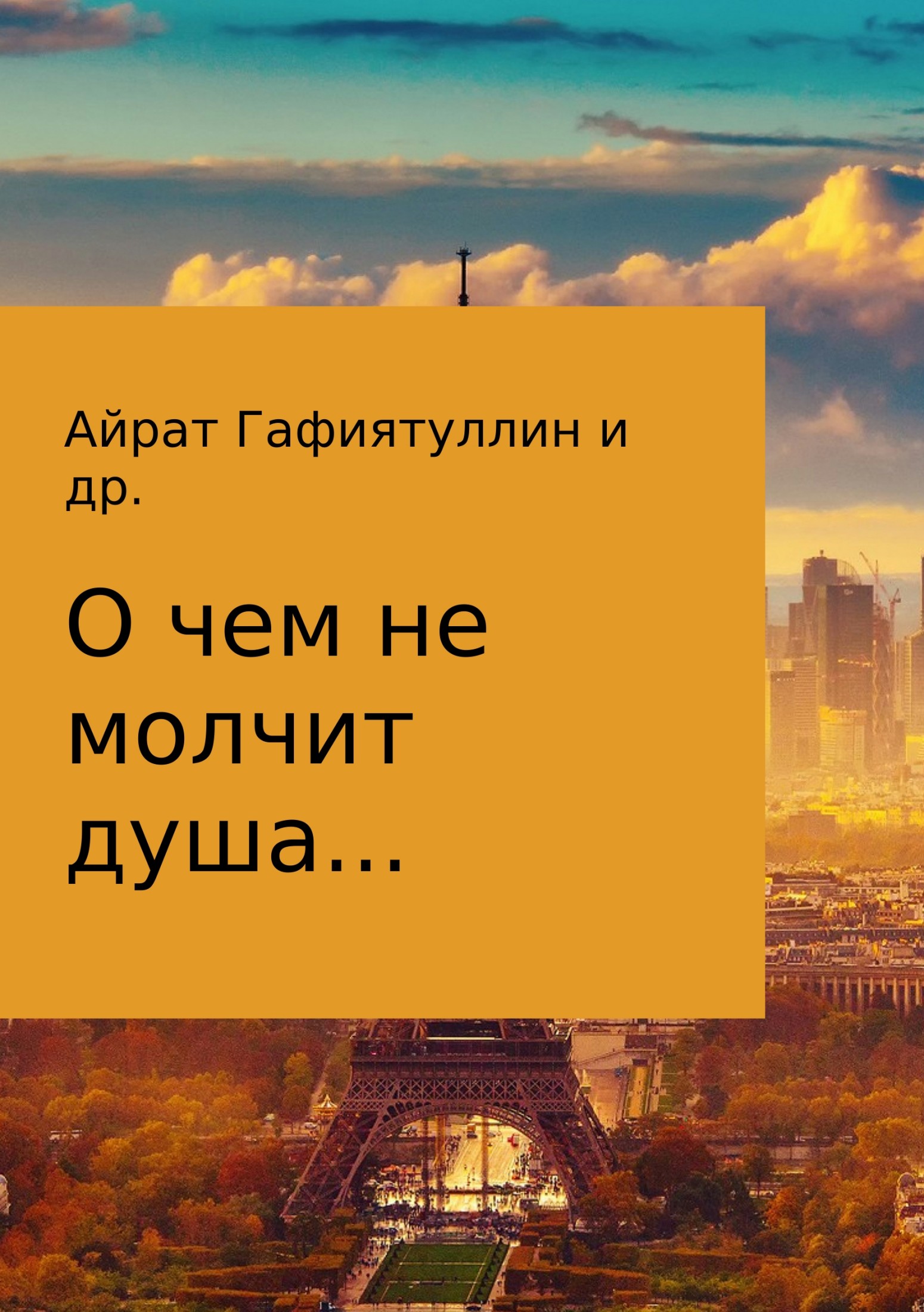class="p1">— Женишь, как бы не так. Связался с Любкой Куделиной и знать более никого не желает. Девки в деревне, эвон, какие нагулянные да гладкие ходят, одна другой краше, а он выбрал себе, прости господи, ни девку, ни вдову, ни мужнюю жену. Да чтобы я такую сноху на порог пустила? Убей меня гром, ни за что!.. Пусть лучше забирает свои монатки и идет куда ему вздумается.
Докурив папиросу и потушив окурок о каблук сапога, Матюха поднимается с поляны и направляется уходить со двора.
— Ты хоть вещи-то с поляны убери, — наставительно напоминает ему Дарья Семеновна.
— Не я набросал, не мне убирать, — говорит Матюха. — Прощайте покуда!
— Куда ты?
— Пойду разомнусь маленько.
Над Октюбой погасли последние лучи вечернего солнца. Высоко в небе тают радужные отблески зари, вспыхивают, звезды, однорогая луна повисла над дальним лесом. А на земле, на широких деревенских улицах, уже густеют сумерки, из-за углов домов и надворных построек расползается мрак, с озера свежий ветер доносит прохладу, из огородов — сладковатые запахи картофельной и морковной ботвы.
Сгорбив плечи, устало бредет Матюха обочиной пыльной дороги в сторону выезда к Черной дубраве. Теперь, когда он один, улыбка сбежала с его губ, брови сдвинуты, на переносье легла морщинка.
Возле дома Куделиных останавливается, словно ждет, не мелькнет ли в ограде знакомый Любин платок, но Люба вторую неделю безвыездно находится в поле, и, безнадежно махнув рукой, он отправляется дальше.
Кончается околица деревни, за околицей бугор, а на бугре некошеное разнотравье. Впереди — темный, застывший в дреме лес, всполохи зарниц и безмолвие, изредка нарушаемое далеким стрекотом уборочных машин. На полях начинается жаркая пора: убирается рожь, дозревают буйноколосные хлеба.
Матюха ложится в высокую траву и, запрокинув руки за голову, долго смотрит в необъятную бездну неба; усыпанного звездами. Мысли обуревают его. Как было бы хорошо, думает он, если бы все люди одинаково понимали радости жизни. Вот мать: радуется только деньгам. Сама сладкой булки не съест, как следует не оденется, каждую копейку несколько раз пересчитает и все копит и копит. А для чего? Кому? Он, Матюха, ее единственный сын, значит для него. Но ведь у него свои руки есть, работает он колхозным слесарем, небось, сумеет сам себя не только прокормить. Однако, может, и не для него, а так просто, от дурости. Выросла мать в нужде, теперь этой нужды не видит, а вот не может насытиться. Скорее всего так. Если бы думала о сыне, не мешала бы ему ни в чем. Без ее ведома огурца в огороде не сорвешь, не только что лишний раз в кино сходить. Все учтет и в строку поставит. И не понимает, что, кроме денег, есть еще что-то другое, более дорогое и близкое.
Давно любит Матюха Любу Куделину, а из-за нее — и парнишку ее, Степку. Завлекла его Люба песнями, веселым характером, синими глазами. Да и жалко их: и ее, и Степку. Не удалась Любе первая девичья любовь, отдала ее в нечистые руки и ожглась, осталась одна с маленьким Степкой. Теперь держится сторожко и даже ему, Матюхе, не верит. А он все, что есть у него и что будет, отдал бы ей без остатка. Сколько раз зоревал с ней на лавочке возле ее дома, уговаривал, доказывал и ничего не достиг. Как птичка пуганая боится взять с ладони зерно, так и Люба боится новой любви. Не столько его опасается, сколько матери, Лукерьи Даниловны, ее скупости, грубости и неуживчивости. Как бы не расстроила старуха их радости, не разбила семейной жизни. Видишь ведь, как говорит-то: такую сноху на порог не пустит… Однорогая луна растаяла и исчезла с ночного неба. В густой темноте пролетели над бугром дикие утки с Сункулинского озера на Октюбу. Запоздало проскрипел коростель.
Обремененный раздумьем, Матюха поворачивается со спины на бок, срывает тронувший его лицо цветок и начинает мять его в широкой огрубелой ладони. В северной части неба, над полями, как раз там, где идет уборка ржи, вспыхивает яркая зарница. Посмотрев на нее, Матюха вдруг пригибается к земле. В короткой вспышке зарницы видит он неясный силуэт человека, сгорбленного под тяжелой ношей. Вслед за тем слышится покашливание, шаркающие по траве шаги. Человек идет по бугру прямо на Матюху.
Шагах в пяти человек этот останавливается, сбрасывает с плеч мешок, по-видимому, нагруженный зерном, садится на него отдохнуть. По тому, как он тяжело и надрывисто дышит, Матюха догадывается, что человек прошел не короткий путь, но кто это, свой или чужой, различить не может. Не вызывает сомнения лишь то, что тащит он с поля зерно и, конечно, не в колхозный амбар. Вот такие, как и его мать, в угоду своей ненасытной жадности путаются под ногами, мешают строить светлую жизнь. И вся злость, вся ненависть к пережиткам прошлого закипает в нем.
— Нелегко, небось, чужое на горбу таскать? — громко спрашивает он, поднимаясь от земли. — Замаялся, сердешный!
— Ой, кто это? — испуганно вскрикивает человек и, соскочив с мешка, кидается в сторону. Но у Матюхи ноги быстрые и руки крепкие. Схватив человека за ворот взмокшей от пота рубахи, он поворачивает его к себе лицом и только тут узнает в нем Мирона Куделина, Любиного отца. Мирон по старости лет работает колхозным сторожем.
— Что же это, дядя Мирон, — не меняя тона говорит Матюха, — тебе такое дело доверили, а ты вот как его исполняешь?
— Эх ты, грех тебя возьми, Матвей, как меня испугал-то, — развязно и поддельно весело отвечает старик. — Чего тебя по ночам на бугор носит?
— Я не про бугор спрашиваю.
— А это, миленок, так… Ужинать домой с поля пошел, ну и того… ржицы малость с собой прихватил. Курочкам, уточкам. Нынче старуха одних утят сорок штук ростит. Без зерна-то они плохо выгуливаются, вот и подумал: дай-ко ржицей их покормлю.
— По-твоему, тут в мешке малость? Пуда два, если не больше. Ишь ты, сам-то как взмок. Хороша малость!
— Да ведь не считал. Чего его считать, небось, убыль невелика — вон он, какой нынче урожай!
— Тебе, понятно, не убыль. А ну, кидай мешок обратно на горб, нечего тут боле с тобой рассусоливать. Пошли!
Мирон изумленно хлопает себя руками по бедрам, по-бабьи охает:
— Неужто в правление сведешь?
— В правление потом. Попадешь еще раз — сведу непременно. Мало того, еще и бока наломаю, чтобы знал, старый хрен, что колхозное добро свято. Люди трудятся, а ты, темная сила, им пакостишь!
— А еще в зятья набиваешься. Эх, зя-ать! Можа, для вашей же пользы стараюсь-то…
— На такую