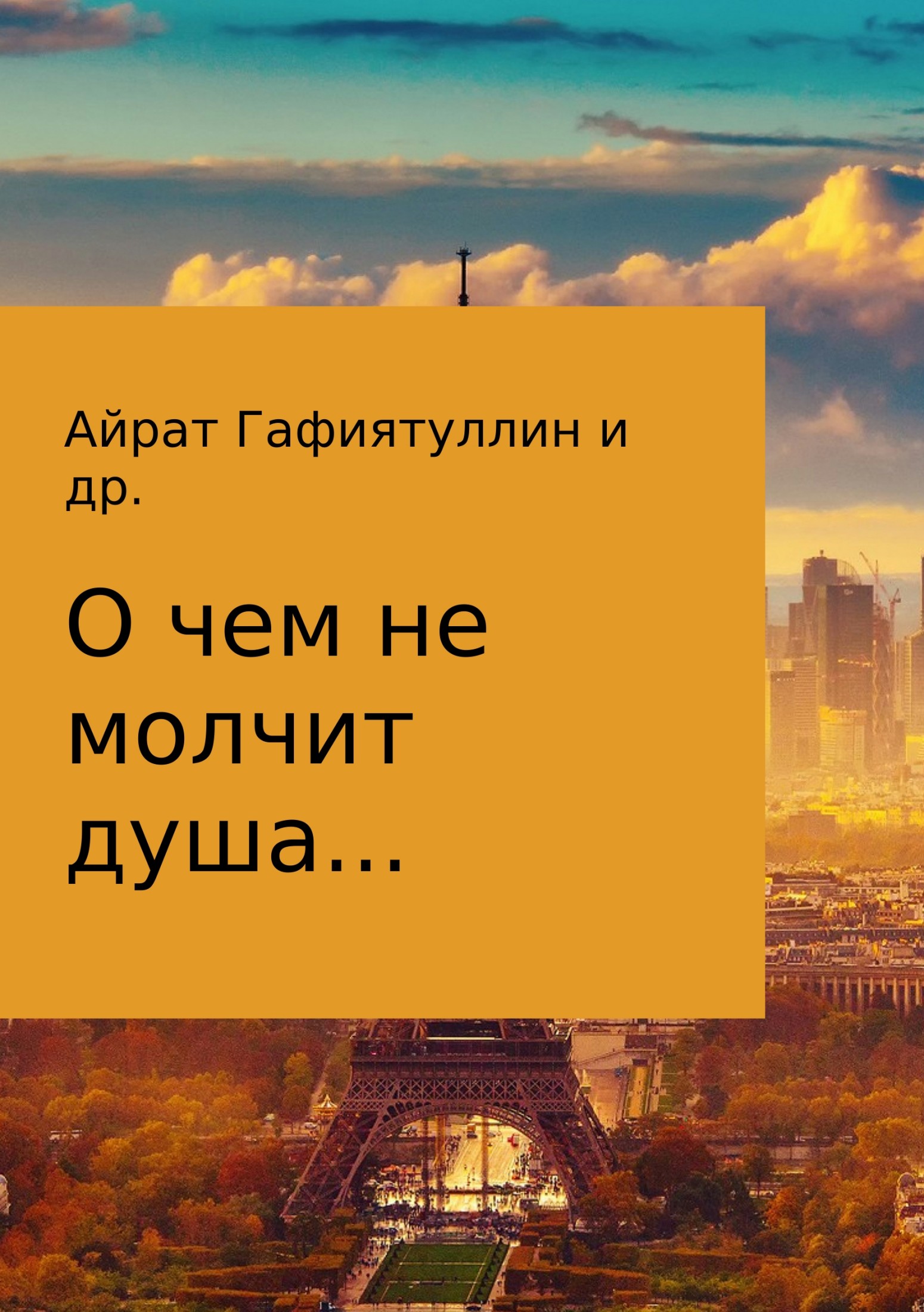пинком. Все ж таки чужой человек, гость в Октюбе. Хотя и паршивец, а все ж таки гость.
— Вот и я Гришану то же сказала.
— Однако другой бы построже сделал, — продолжает свою мысль старик. — Вот когда я молодым был, мы тогда одного такого-то иным манером учили. Ночью поймали, сняли с него шаровары да крапивой, крапивой его!
— Крапивой? — переставая плакать, со смешком переспрашивает Маришка.
— А чего же?! Любовь-то, она ведь, Маришенька, что цветок. На нее сапогом наступать нельзя. Вот и Гришан… Он за свое стоит. Любит потому.
— Знаю, что любит, — вздыхает Маришка. — Только зачем он так-то?..
— Ну и ты тоже… Нечего, где не надо, нрав свой оказывать.
— Обидно, ведь, деда.
— Мало чего…
Разговор становится спокойным. Маришка пересаживается к окну, кладет руки на подоконник и внимательно слушает поучения деда. Словно пронеслась гроза, громыхнула громом, сверкнула молнией и перекатилась дальше, только отзвуки ее еще доносятся издалека, текут ручьи, дышит земля благодатным миром.
Близится рассвет. Стихают зарницы, видно, и впрямь замолкли далекие грозы.
Когда со стороны станции снова слышится гудение мотора и вспыхивают стелющиеся по тракту путевые огни, Михей говорит:
— Пойди-ка, Мариша, встреть Гришана. Да передай ему: пусть остановит машину на часок, отдохнет.
Девушка еще сомневается, нерешительно мнется, понимая, что не зря дед дает ей такое поручение. Но Михей настойчив, а на сердце у девушки томительно тревожно, и не идет она, а бежит навстречу своему счастью.
— Эх т-ы, жужелица! — замечает ей вслед Михей. — Все вы такие…
И еще проходит час, а, может, и два. Бледнеет небо, спускается на улицу легкий туман, плещут волны на озере, перекатывая прибрежную гальку, короткими порывами дует ветер. Нахлобучив папаху поглубже на голову, ходит Михей от двора к двору, будит хозяев, выполняя поручения Ивана Захаровича. Вскоре и сам Иван Захарович возвращается с поля. Остановив усталого коня возле Михея, спрашивает:
— Ну как, не вернулся еще Гришан с элеватора?
— Вернулся.
— Снова на стан поехал?
— Да нет. Во-он там, на выезде, машину остановил. Отдыхает.
— Чего ж это он?! Небось, не время теперь.
— Мой грех, — вздыхает Михей. — С меня спрашивай. Я туда Маришку послал. Хлеб не ждет, а ведь и любовь-то тоже нужна. Позорюют чуток, глядишь, днем спорее работать будут.
— Коли так, ладно! — соглашается председатель. — Только смотри, чтобы зоревали недолго… Я тоже сейчас заеду домой, вздремну, чего-то ног под собой не чую.
И Михей тоже устал. Как и всегда после бессонной ночи, начинает его одолевать дремота, смежаются веки, покалывает суставы в коленках, успокаивается от тревог и забот старое сердце.
ОКАЯННЫЙ ПАРЕНЬ
Матюха Чекан сидит на поляне возле дома, обхватив колени руками, и с улыбкой слушает проклятия матери. Его мать, Лукерья Даниловна, наполовину высунувшись в раскрытую створку окна и показывая кулак, кричит:
— Чтоб тебе, анафеме окаянной, на том свете икнулось огурцами и помидорами! Чтоб тебе, ироду, руки пронзило, коли еще раз на гряды полезешь! Только зайди у меня в дом! Только зайди! Я те, патлатому, покажу, как мать разорять!
— Вы бы потише, маманя, кричали-то, — говорит Матюха. — А то всех соседей взбулгачите. Эко что крику, будто невесть что случилось.
— Матушки мои, — еще больше распаляется Лукерья, — разорил да еще насмехается, окаянный человек! Вон из моего дома. Во-он! Чтобы следу твоего больше тут не было.
— Эх, маманя! А еще икону в переднем углу держите, по утрам об пол лбом стукаетесь! Разве так можно?
— Убирайся от двора, пока цел! Народила я тебя, проклятого, на свою голову. Вырастила дурака!
— Уйду. Только зазря вы, маманя, в истерику ударились. Не велик ведь урон-то: десяток огурчишек да столько же помидорцев. С десяти гряд это самый последний пустяк. А ребятишки-то предовольнехоньки. Ели, небось, да тебя добрым словом поминали.
— Оголодали, поди-ко, твои ребятишки, окаянная голова.
— Не-ет, отчего им оголодать-то? Ребятишки справные. У них дома, небось, овощей не меньше, чем у тебя. А ведь с чужого-то огорода огурчики, говорят, всегда слаще. Сама, поди, помнишь, как меня, мальчонку, в чужих огородах огурцы воровать посылала…
Напоминание об этом окончательно переполняет чашу терпения Лукерьи. Она истошно начинает причитать, отходит от окна, и через минуту к ногам Матюхи летят его сапоги, брюки, гимнастерка, чемоданчик с немудреным слесарным инструментом, бобриковое пальто, которое он недавно купил, шапка, полотенце и один старый валенок. Старуха, по-видимому, выбрасывала первые же попавшиеся ей под руку Матюхины вещи.
Матюха, не меняя позы и по-прежнему улыбаясь, вытаскивает из кармана засаленную, помятую пачку с папиросами и закуривает.
В самый разгар выселения из соседнего двора привлеченная шумом и криком выходит бабка Дарья Семеновна. Увидев сидящего на поляне Матюху и разбросанные около него вещи, всплескивает руками и, мелко семеня башмаками по игольчатой траве, бежит к раскрытому окну.
— Матюша, что это у вас?
— Маманя воюет, — равнодушно отвечает Матюха. — А ты, бабушка, к окошку-то близко не лезь, постерегись, как бы в тебя маманя чем-нибудь не влепила.
— В своем ли она уме-то?
— В своем. Только разъярилась маленько.
— Опять, наверно, ты чего-нибудь нагрешил?
— Да уж, понятно, я. Кто же боле-то? Ребятишки тут ко мне приходили, Любин сынишка с дружками. Ну, я и того… сунул им в гостинцы по одному помидорчику. А мать возьми да и накрой. Ребятишки кто куда, как воробьи, вспорхнули и улетели. Мать мне за гостинцы расчет производит.
— Ай, ай, ай! — укоризненно качает головой соседка. — Как же это ты так, Матвей? Мать ведь она тебе все-таки.
— Да уж, понятно, мать, — соглашается Матюха. — От другой не стал бы терпеть…
Дарья Семеновна подбирается ближе к окну и успокаивающе зовет:
— Лукерья Даниловна, голубушка, обожди-ко малость!
Голос постороннего человека охлаждает накаленную в доме атмосферу, военные действия приостанавливаются, и в раскрытую створку снова высовывается хозяйка. На этот раз лицо у Лукерьи Даниловны уже не разъяренное, а улитое слезами, посыпанные бусом редкие волосы выбились из-под платка.
— Посмотри-ко, баушка, на разорителя моего, — слезливо обращается она к Дарье Семеновне. — Иной сын все в дом норовит, а этот, окаянный, из дому тащит. Прошлый раз деньги на трудодни получил, а полностью не принес. Спрашиваю: куда деньги девал? А ребятишкам, говорит, пряников купил, да Любкиному Степке игрушки подарил. Сегодня с гряд самолучшие огурцы и помидоры снял и опять тому же Степке с дружками раздал. А я эти огурцы и помидоры на продажу готовила. Думала, вот завтра утром на станцию, к поезду снесу, глядишь десятка-другая рублей в хозяйстве добавится. И на все-то ему наплевать!
— Женила бы его, — замечает Дарья Семеновна.