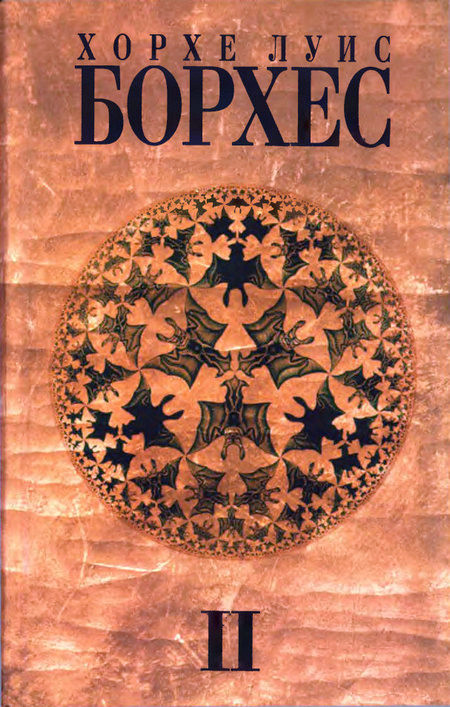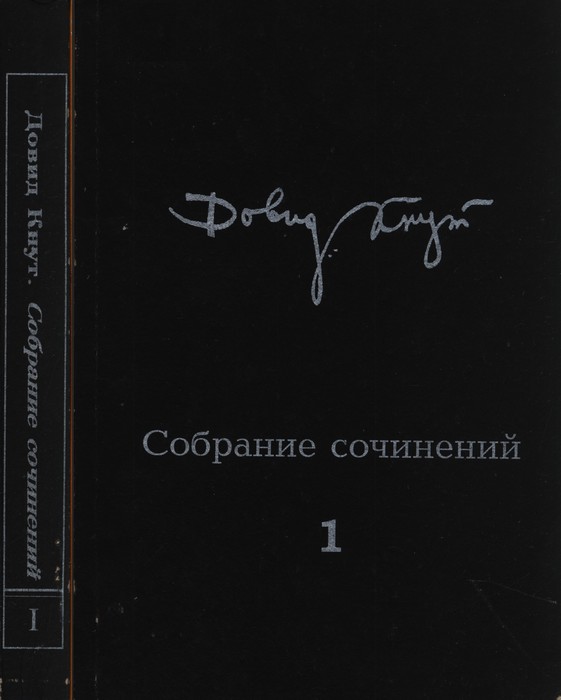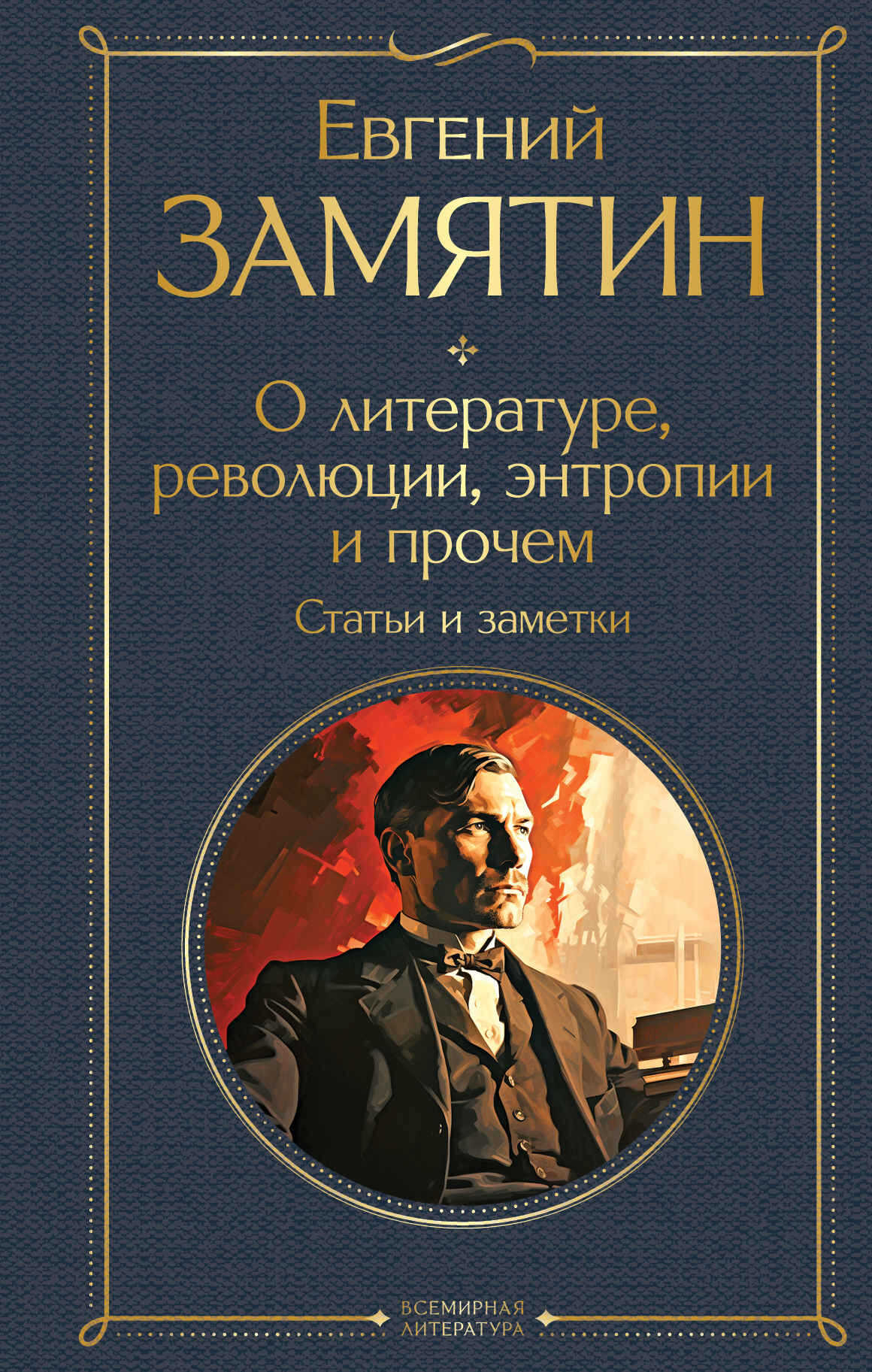их являться реже, но давать большие результаты.
Поэзия всегда желала отмежеваться от прозы. И типографским (прежде каллиграфическим) путем, начиная каждую строку с большой буквы, и звуковым ясно слышимым ритмом, рифмой, аллитерацией, и стилистически, создавая особый «поэтический» язык (трубадуры, Ронсар, Ломоносов), и композиционно, достигая особой краткости мысли, и эйдолологически в выборе образов. И повсюду проза следовала за ней, утверждая, что между ними, собственно, нет разницы, подобно бедняку, преследующему своей дружбой богатого родственника. За последнее время ее старания как будто увенчались успехом. С одной стороны, она под пером Флобера, Бодлера, Рембо приобрела манеры избранницы судьбы, с другой, поэзия, помня, что повитка непременное условие ее существования, неустанно ищет новых и новых средств воздействия и подошла к запретной области в стихе Вордсворда, композиции Байрона, свободном стиле и др. и даже в начертании, раз Поль Фор печатает свои стихи в строку, как прозу.
Я думаю, и невозможно найти точной границы между прозой и поэзией, как не найдем ее между растениями и минералами, животными и растениями. Однако существование гибридных особей не унижает чистого типа. И относительно поэзии ее новейшие исследователи пришли к согласию. В Англии продолжает царить аксиома Кольриджа, определяющая поэзию как «лучшие слова в лучшем порядке». Во Франции мнение Т. де Банвиля: поэма — то, что уже сотворено и не может быть исправлено. К этим двум мнениям примкнул и Малларме, сказавший: «Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля».
Выражая себя в слове, поэт всегда обращается к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель — он сам, и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда некий мистический собеседник, еще не явившийся друг, или возлюбленная, иногда это Бог, Природа, Народ...
Это — в минуту творчества. Однако ни для кого, а для поэта тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит себе живого реального читателя среди современников, порой потомков. Этот читатель отнюдь не достоин того презрения, которым так часто обливали его поэты. Это благодаря ему печатаются книги, создаются репутации, это он дал нам возможность читать Гомера, Данте и Шекспира. Кроме того, никакой поэт и не должен забывать, что он сам, по отношению к другим поэтам, тоже только читатель. Однако все мы подобны человеку, выучившемуся иностранному языку по учебникам. Мы можем говорить, но не понимаем, когда говорят с нами. Неисчислимы руководства для поэтов, но руководств для читателей не существует. Поэзия развивается, направления в ней сменяются направлениями, читатель остается все тем же, и никто не пытается фонарем познания осветить закоулки его темной читательской души. Этим мы сейчас и займемся.
Прежде всего каждый читатель глубоко убежден, что он авторитет; один — потому, что дослужился до чина полковника, другой — потому, что написал книгу о минералогии, третий — потому, что знает, что тут и хитрости никакой нет: «Нравится — значит, хорошо, не нравится — значит, плохо; ведь поэзия — язык богов, ergo[47] я могу о ней судить совершенно свободно». Таково общее правило, но в дальнейшем своем отношении читатели разделяются на три основные типа: наивный, сноб и экзальтированный. Наивный ищет в поэзии приятных воспоминаний: если он любит природу — он порицает поэтов, не говорящих о ней, если он социалист, Дон-Жуан или мистик — он ищет стихов по своей специальности. Он хочет находить в стихах привычные ему образы и мысли, упоминания о вещах, которые ему нравятся. О своих впечатлениях он говорит мало и обыкновенно ничем не мотивирует своих мнений. В общем, довольно добродушный, хотя и подвержен припадкам слепой ярости, как всякое травоядное. Распространен среди критиков старого закала.
Сноб считает себя просвещенным читателем: он любит говорить об искусстве поэта. Обыкновенно он знает о существовании какого-нибудь технического приема и следит за ним при чтении стихотворения. Это от него вы услышите, что X — великий поэт, потому, что вводит сложные ритмы, Y — потому, что создает новые слова, Z — потому, что волнует путем повторений. Он выражает свои мнения пространно и порой интересно, но, учитывая только один, редко два или три приема, неизбежно ошибается самым плачевным образом. Встречается исключительно среди критиков новой школы.
Экзальтированный любит поэзию и ненавидит поэтику. В прежнее время он встречался и в других областях человеческого духа. Это он требовал сожжения первых врачей, анатомов, дерзающих раскрыть тайну Божьего создания. Был он и среди моряков, освистывавших первый пароход, потому что мореплаватель должен молиться Деве Марии о даровании благоприятного ветра, а не жечь какие-то дрова, чтобы заставить вертеться какие-то колеса. Вытесненный отовсюду, он сохранился только среди читателей стихов. Он говорит о духе, цвете и вкусе стихотворения, о его чудесной силе или, наоборот, дряблости, о холодности или теплоте поэта. Встречается редко, вытесняемый все больше и больше двумя первыми типами, и то среди самих поэтов.
Картина безотрадная, не правда ли? И если поэтическое творчество есть оплодотворение одного духа другим посредством слова, подобное оплодотворению естественному, то это напоминает любовь ангелов к каиниткам, или, что то же самое, — простое скотоложество. Однако может быть иной читатель, читатель-друг. Этот читатель думает только о том, о чем ему говорит поэт, становится как бы написавшим данное стихотворение, напоминает его интонациями, движениями. Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта и как лишь ее совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью Божией. Для него стихотворение дорого во всей его материальной прелести, как для псалмопевца слюни его возлюбленной и покрытое волосами лоно. Его не обманешь частичными достижениями, не подкупишь симпатичным образом. Прекрасное стихотворение входит в его сознание, как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки. Только при условии его существования поэзия выполняет свое мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой читатель есть, я по крайней мере видел одного. И я думаю, если бы не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать такими.
Если бы я был Беллами, я бы написал роман из жизни читателя грядущего. Я бы рассказал о читательских направлениях и их борьбе, о читателях-врагах, обличающих недостаточную божественность поэтов, о читателях, подобных д’аннунциевской Джиоконде, о читателях Елены Спартанской, для завоевания которых надо превзойти Гомера. По счастью, я не Беллами и одним плохим романом будет меньше.
То, чего читатель вправе и поэтому должен требовать от поэта, и составит предмет этой книги. Но поэтов она не научит писать стихи, подобно тому как учебник астрономии не научит создавать небесные светила.