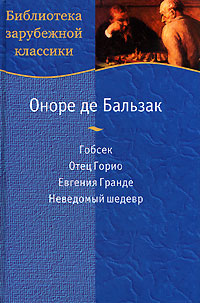ужаса. Лик девушки исказила жуткая судорога. Она будто задыхалась, втягивая сдавленный хрип отверстыми устами. Резко дернувшись, вскочила на ноги; и, не сводя с меня панического взора, попятилась назад, словно пред нею стоял хищник, чудовище, к коему она инстинктивно страшилась тылом обратиться; руки ее, сжатые в кулаки (сминая мое послание), были рефлекторно-угрожающе вскинуты на уровне подбородка, задраны плечи, втянута шея, расширены зрачки, оскалены зубы… Отступив на несколько шагов, она испустила протяжный, истошный, нечеловеческий вопль, — то обрывавшийся по недостатку дыхания, то пронзительно вырывавшийся вновь, — беспамятный стон потрясения — отчаянный клич о помощи… Напрасно я простирал к ней дрожащие длани, молил успокоиться: «Я не причиню тебе вреда. Это моя поэзия. Я люблю тебя…» — тихо вторил я. Но она не внимала, точно не человечий голос — волчий рык до ее ушей доходил. Все торопливее пятилась от меня, не смевшего сделать к ней ни шагу; и наконец, взметнув руками, при страстном (убийственном) выкрике кинулась прочь, рассыпав стихи мои по ветру…
Белеющие листы, подобно лебедям, опускались на безмятежную гладь озера. Я спонтанно двинулся им вослед и в зеркале вод узрел свое отражение — свое про́клятое отражение. Комета гнева рассекла душу. Я дико взревел, разъяренному зверю сродни. Вцепился пальцами в лицо да выдрал с кровью клоки ненавистных волос. Бросился в воду и стал неистово молотить кулаками, в брызгах агонии захлебываясь… Внезапно — на какой-то момент — все во мне омертвело — дух заволокло невообразимым кошмаром. Я устрашенно отпрянул на берег и опрометью к лесу ринулся, будто собственной тени убегая. Слез не было в моих глазах, они полыхали необузданным бешенством, испепелявшем все чувства, кроме чувства ужасающей боли, им порождаемой. Я ничего не разумел, не ведал куда несусь, сквозь чащобу прорываясь, но первобытный инстинкт верно влек меня в безопасное логово, где бы я мог скрыться от света и незримо зачахнуть в муках глада души неутолимого…
IX
Я впал в забытье. Лезвие острой лихорадки четверо суток тяготело надо мною, грозя перерубить туго натянутую прядь моей жизни. Доктор Альтиат безвыездно находился рядом, категорически оставив все прочие свои обязательства; «Лучше городу глупцов погибнуть, чем одному достойному творенью», — со своей характерной нешуточной улыбкой скажет он мне впоследствии.
На пятый день я очнулся. Но не сознавал, сколько времени минуло; мне чудилось: прошла всего одна ночь — одна ненастная, кошмарная ночь. Мною владела летаргическая апатия. Глаза то открывались, то закрывались; и я не сумел бы исчислить, каков был промежуток между размыканием отягченных век: секунду он длился, минуту или же часы… тьма, сродная вечности… Доктор Альтиат бережно поил меня, поглаживал по голове, что-то говорил… Временами я замечал: он отлучился, а его пост занял Эвангел, — и вновь с машинальным равнодушием смежал очи, в летейской дреме утопая. Но вдруг ударом молнии во мне мысль разразилась; я встрепенулся:
— Лаэсий! — вырвался из меня испуганный, надсадный возглас; взоры мои попеременно метались от доктора Альтиата к Эвангелу, бывших в тот момент со мною. — Где Лаэсий?! — в явственно-ярком, как прозренье, бреду взмолился я.
Мужчины серьезно переглянулись.
— Тише, Себастиан, тише, — молвил доктор. — Лаэсию нездоровится. Ты же знаешь, он издавна болен, и порой ему становится хуже. Я бдительно наблюдаю за ним. Не тревожься.
— Я должен его видеть, — сказал я, силясь встать с постели. — Должен…
Но немощные члены не повиновались мне; я лишь сумел перевернуться со спины набок, дыша до того надрывно, словно б свернул гору.
— Завтра, Себастиан, завтра ты увидишься с Лаэсием, — мерным полушепотом произносил доктор, укладывая меня в исходное положение своими сильными и деликатными руками целителя. — Сегодня ты еще очень слаб, Себастиан, завтра тебе полегчает, и ты всенепременно повидаешься с Лаэсием, а сегодня, Себастиан, сегодня вам обоим надлежит отдыхать… — напевно продолжал он, усыпляя меня мелодически льющейся речью, как матерь убаюкивает младенца колыбельной.
Эвангел же, сев подле, ласково взял мою руку; глядя в добрые его, любящие глаза, я исподволь успокоился… Вскоре упадок сил снова низринул меня в пучину беспамятства…
Проснувшись утром, я чувствовал себя значительно увереннее. В полдень, вопреки настояниям доктора повременить до вечера, я встал и, опираясь на Эвангела, с трудом добрел до комнаты наставника. Лаэсий лежал навзничь на своей узкой сосновой кровати — на своем смертном одре. Его лик, осененный охристыми волокнами света, сочащегося сквозь занавеси, казался бескровным, восковым: черты лица осунулись, стали смутно-застылыми; с тягостным хрипением вздымалась грудь… В отчаянном всплеске эмоций я срыву отстранился от поддерживающего меня Эвангела и, прянув к Лаэсию, повалился бы на пол, если б доктор Альтиат меня не подхватил. Учитель пробудился; он тихо повернул голову, оделивши меня трогательным ясным взором.
— Отец… — вымолвил я, покуда доктор с Эвангелом ставили меня на ноги.
Они подвели меня к кровати и усадили на стул. Лаэсий протянул мне правую руку, я взял ее обеими своими и, с исступленной нежностью прижав к лицу, разрыдался.
— Не плачь, сын мой, — сдавленно проговорил Лаэсий, — ибо нет надежды. Смирись с тем, что неизбежно, дабы не презреть того, что подлежит твоей воле.
— Простите меня, отец, простите… — вторил я с залитыми раскаяньем глазами.
— Не проси у меня прощения, как не стал бы ты просить его у себя самого, ежели меня любишь, Себастиан, сын мой, — глухим голосом медленно выговаривал Лаэсий, тяжело дыша и делая частые интервалы. — Тот, кто истинно раскаивается, не ищет умирения ни в чьем-либо прощении, ни в необратимом прошлом, но в самом себе его обретает — в будущем, что подвластно ему в настоящем. Изменись, в чем считаешь себя неправым, и вина впредь не будет тебе причастна, — ибо станешь иным (бабочка, из кокона выпорхнув, уж не памятует, как дотоле личинкой была)… Ошибка не та, что содеяна, но та, что не признана, не усвоена и не исправлена, будь то возможно, — в положительном случае ошибка претворяется в опыт, из неведенья оборачиваясь познанием. Мудрый человек, будучи лишь человеком, может поддаться заблуждению, но не может оставаться при нем вопреки разумению. Не стоит печалиться, что приходится ошибаться, но подобает стыдиться, коли не извлек урок из оплошного шага и о тот же камень преткнулся. Даже малые дети не попытаются дважды выхватить саламандру167 из камина, — довольно уяснить, что огонь опаляет, дабы избегнуть ожога… И чтобы как можно меньше ошибаться, надобно как можно больше учиться на стороннем опыте: внимать нетленной мудрости, завещанной выдающимися личностями; чутко вникать в причины неблагоразумия и несправедливости, множество прискорбных примеров коих нам в назидание