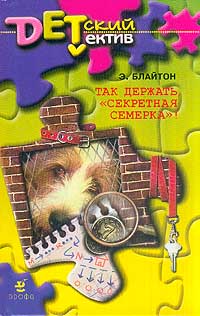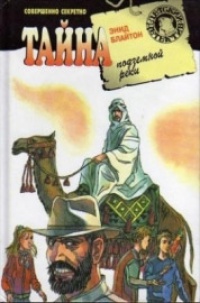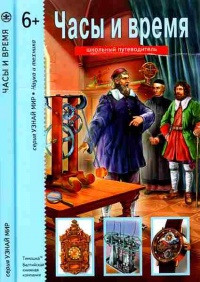На столе нервно моргала настольная лампа, заставленная толстой книжкой.
Бабушка в кресле крепко спала, подложив под голову подушку-думочку с вышитым на ней венком из маков. У неё на коленях сонным плюшевым клубком лежала Вакса и откровенно храпела, подёргивая лапками при каждом вздохе. Вокруг них вились Гости, жадно смакуя каждый выдох и купаясь в золотистой пыльце дрёмы, укрывавшей кресло, — колдовского сна.
На креденсе, среди фарфоровых фигурок, стояла маленькая шарманка, моя, детская — из ларька под Детским миром, дребезжавшая за свои шестьдесят девять копеек какие-то совершенно неположенные песни. Разбавляя хлад и тьму смесью музыкальных звуков, пел меланхоличный горн, хрустальными горошинами брызгал клавесин истинным горем, рыдала без слез одинокая скрипка, пробивалась сквозь дешевые перепонки лютня — шарманка веселилась. Колыбельные сменяли одна другую, в них вплетались медляки, канцоны и блюзы, подумав секундочку, шарманка вывела нечто мелодичное из Анны Герман, вторым голосом ныл по-немецки какой-то мальчик: «Майский жук, лети ко мне. Отец погиб мой…», его сминала мелодия из «Обыкновенного чуда», под детскую песенку про кота: «Снилась мне река полна молока — аж до самого дна…» — ухало совою в ночи что-то джазовое, тихое и вкрадчивое, словно вода в новоорлеанских, наспех вырытых могилах. Звенели бубенцы, тренькали струны, сладко свиристели флейты и со всем не позабытым прощалась гулкая каллиопа — сегодня и навсегда.
Первым делом я начертил круг. Таблеткой аспирина. Вышло плохо. «Это эллипс», — разрешил себе думать я. «Он похож на круг, и его не взломают». Дочерчивал и зачитывал его я в спешке и прошелся почти раскрошившейся таблеткой по собственным тапочкам. Из них пришлось выползти. Гости обратили внимание на меня и ринулись вперёд.
Всегда люблю смотреть на действие круга, пусть и аспиринового.
Назойливые попытки Гостей, званых и неожиданных, подойти поближе в буквальном смысле были размазаны в дымный студень. Время от времени из парообразного морока выныривала шарящая ладонь, лицо с серебристыми глазами, подол платья с кружевным подбоем.
— …Sator arepo, — сказал я осторожно. Закрыл глаза, заткнул руками уши и продолжил… Холод не оставил комнату.
— Они не любят «Отче наш», — сообщила мне как-то бабушка, — особенно латыной.
Тогда мы сидели на кухне и перебирали съедобные каштаны — с длинными хвостиками отправлялись в шкаф, с короткими — в печку.
— И что надо сделать? — проследив, как развалилась пирамида из каштанов, спросил я.
Бабушка вздохнула.
— Пока только помнить, — сказала она, ссыпая годные каштаны в казан. — Имею надежду, до знания не дойдет…
Я открыл глаза. При первых звуках молитвы молитв Гости замерли — те из них, что не участвовали в свалке у круга, завертели головами и пригнувшись бросились вон — в стены, в половицы, в шкаф с книгами. Круг дрогнул и засветился слабеньким белым светом. Золотое сияние вокруг бабушки потускнело. Шарманка охрипла и начала сбоить, стоило мне сказать «Amen».
Последние из Гостей, возмущенно размахивая пальцами, вышли прочь.
— Идите с миром, — основательно напутствовал их я. — Эхи поганые!
За моей спиной спящая бабушка, совсем другим — не знающим ни сигарет, ни потерь, ни слишком быстро уносящихся лет — голосом сказала по-польски: «Куда же ты, мамуся?!! Мама!!!»
Вздохнула и проснулась. Отдохнувшая и грустная. На коленях у неё, громко и хрипло мурлыкая, выделывала параболы Вакса. Запахло ландышами и табаком.
Я молча выскочил из круга. Кроме легкой сырости ничего в комнате не напоминало о наших прозрачных друзьях. Я схватил всё ещё что-то квакающую и звякающую шарманку, открыл, обжигая пальцы, печку и бросил на полыхающие жадным жаром угли её, визжащую от ярости, частицу и орудие чужого зла.
За окном отчаянно сигналила машина, возле Красного дворца зажгли жёлтые фонари. Тучи, принесенные северным ветром, сыпались обильным мокрым снегом.
Бабушка прошлась ладонью по волосам, потёрла щеки, кашлянула в кулак и стряхнула кошку с колен. Встала и, оглядев комнату, подозрительно спросила:
— А где той пташек?
— Какой ещё пташек? — разъярённо спросил я, обнаружив, что задники тапочек бывшие вне круга, отсырели и пошли пятнами чёрной плесени. — Зима, бабушка, птички того — улетели.
— Ум у тебя одлетел, остался язык, — философски произнесла бабушка. — Хотела б, чтобы случилось наодврут. Но то мечта… Тут прилетел, был, мой пташек — мышикрулик[119] — такой золотой весь, клевал зерна, за ним пришла мама… моя мама — и только хотела поговорить с ней, давно не видала — как ото ворвался ты и сотворил…
И бабушка оглянулась.
— А что-то тут творилось? …Лесик?! Что ты сотворил?
— Ну, что?! — сказал я, пакуя противно пахнущие гнилой водой тапочки в газету. — Что?! Хороший вопрос, что… Сначала вы, бабушка, спите на закате, потом у вас птички, потом встреча с мамой, а расплачиваюсь я.
— Тапками? — спросила бабушка с ноткой надменности.
Ладонью она толкнула на стол том Ожешко, закрывавший лампу. Шелестя страничками, книга тихонько стукнулась об стол, за ней обнаружился стакан с чем-то белым.
— Сами нэрвы у всех, — буркнула бабушка и взяла склянку. — Пансионерки просто! Имбирне молоко, — сказала она, — од него всё. Гонит апатычность и артрытызму… — и она поднесла стакан к самому носу, затем глянула на него чуть ли не вплотную. — Хм! — сказала бабушка грозно и нацепила очки. — Скиснело!
Она развернулась всем корпусом, и я ощутил дикое желание схватить прах тапочек и бежать. Вакса, тревожно принюхивавшаяся к воздуху в комнате, громко чихнула. И виновато глянула на нас.
— Направду, — пророкотала бабушка. — Инвазия[120]!!! Какая низость! Кламство! Такое на Вигилию… Ко мне в дом! На мое молоко! Кто то был?!
— Тут, бабушка, такое было… — виновато начал я. Вакса обернула себя хвостом и зевнула, явив миру четыре желтоватых клыка.
— Мама, — сказала с порога тётя Женя. — Вот ты где! Я шла на голос. В том стакане все пропало, что ты с ним ходишь? Христос Рождается!
— Славим Его… — обескураженно сказала бабушка. — Скондз ты взя́лась, Геничка?
— Известным путём, — сказала тётя Женя, улыбнулась и немного покраснела, привядший морозный румянец вспыхнул вновь. — Мама, говорю тебе, дай мне стакан, вылью уже эту гадость! И она буквально выдрала стакан из бабушкиных рук. Та слегка нахмурилась и зашла тёте Жене за спину.
Тётя Женя разглядывала стакан.
— До какого состояния довели молоко, — сказала она осуждающе. — Такое нечистое, просто зараза! Три дня оно стояло, что ли.
Бабушка надела очки и уставилась в затылок собственной дочери.