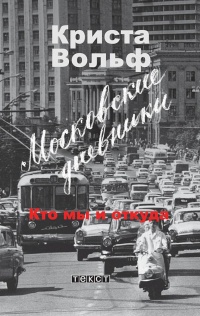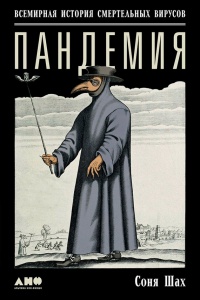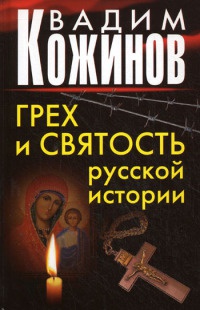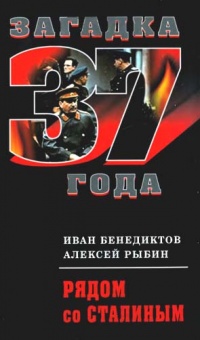наполнена смыслом и радостью. Сонина жизнь не случилась бы, не состоялась.
Андре открыл глаза. А кому кланяться за васильковые, синие-синие, цвета летнего полуденного неба Андрюшины глаза? Какой прабабке? Какому прапрапрадеду?
— Я долго почивал? — спросил он, притянув Соню к себе.
«Почивал»! Словечко из бабушкиного эмигрантского сундука.
— Час, наверно. Может, больше. Уже закат, видишь?
Андре сел на постели, давя зевок. Взглянул за окно, восхищенно цокнув языком. Створки окна приоткрыты, лес совсем рядом. Кроны дубов, верхушки берез и ясеней освещены закатным солнцем.
— Здесь даже дубья! — восхитился он.
— Дубы, а не «дубья», дубинушка мой.
— Пойдем теперь в чащу! Да? Будем каждый вечер творить променад!
— Какая чаща, опомнись! Какой променад? — засмеялась Соня, но Андре уже стаскивал ее с постели, скорей, скорей, пока солнце не село, пока вечернее небо алым пламенем полыхает, пока лесная земля хранит тепло последнего летнего дня.
Нет, уже осень, первый день осени.
— Андрюша, сегодня у сына первый день занятий. Мне сегодня нужно домой…
— Опять?! — Он уже тащил ее за собой вниз по лестнице, на ходу застегивая на ней блузку. — Опять домой? Не спущу тебя! Баста!
И Андре вывел ее во двор, крепко держа, по-хозяйски обнимая, охваченный внезапным веселым порывом, всплеском французского южного сумасбродства: променад! Лес! Закат! Дубья!
Вот овражная узкая тропинка… Глинистая лесная земля, желтые еловые иглы, дубовые листья, крохотные твердые зеленые желуди…
— Желуди! Андрюша, смотри!
Он поднял желудь, попробовал его на зуб, скорчив шутливую гримасу.
— А у вас каштаны… Да? — спросила Соня с внезапной тоской, стоя рядом с ним на дне лесного оврага.
Невдалеке шумел ручей. По мутной, желтой, пенной воде плыли листья, подгоняемые сильным течением, неслись лесные черные коряги. Сухая еловая ветка застряла, запнувшись об острый валун, и крутится, крутится, крутится, будто желтый лохматый волчок.
— У нас каштаны, да, — подтвердил Андре и сунул желудь в карман брюк. — Что ты печалуешься? Ты думаешь: будет день, я уеду к своим каштанам?
— Нет, нет, что ты!
— Соня, послушай меня… — Он протянул ей руку, осторожно ведя через дряхлые, трухлявые мостки. — У французов есть такой… мм… как это… парафраз… образный слог… Не знаю, как это перевести на русский…
Андре произнес по-французски, и Соня повторила за ним, как смогла, уже соскочив с мостков, поднимаясь вверх по склону:
— Плезьон де ля ви… Красиво.
— Вот-вот. Я пробую найти перевод. «Радость к жизни». Да? Список радостей. Самых простых радостей. Надо уметь их почуять. Вкусить. Понимаешь? Взять на вкус. Жизнь должна быть… как это… Как цепь простых радостей. Одна наплетается на другую…
— Нанизывается.
— Да, хорошо. Из этих звен… звеньев состоит жизнь. Французская жизнь… Я не хочу тебя печаловать, но я так наблюдаю… Я вижу: русская жизнь — ахи, охи, много слез, всегда недовольно всем. Ты уедешь к своим каштаны. Я должна быть сегодня в свой дом. Все грустно, будем плакать. Так?
— Нет, — смеясь, возразила Соня.
Они одолели спуск и подъем и стояли теперь на вершине оврага. Перед ними была лесная поляна, с трех сторон окруженная темной стеной осеннего тихого леса, — вот куда они попали, два Робинзона, ступившие на подмосковный обитаемый остров.
Андре огляделся. Синие глаза его весело и жадно блестели — он нашел эту землю, он открыл ее, он привел сюда свою женщину. Никто никогда до него не видел этой поляны, этого леса, этого стога — вон, справа, невысокий, приземистый стог.
— Пойдем в этот сноп! — властно приказал Андре.
Он сжал Сонину руку и повел за собой, и Соня послушно пошла за ним. Совершеннейшее дитя. Великовозрастное французское долговязое дитя. Он желает нанизывать простую радость на простую радость. Изволь, мое солнышко. Сплетай свою легкую, яркую, пеструю цепь. «Плезьон де ля ви». Плети, плети ее еще полгода. Только бы я потом на горле ее не затянула… Нет, грех так думать!
Подойдя, Андре нырнул в этот стог, утянув за собой Соню. «Мы падаем!» Тонкие копья свежей соломы, запах сухой травы, рука Андре, его плечо, его губы… Вечернее низкое небо, бледный серп месяца, белый, размытый, тающий след реактивного самолета… Здесь рядом какой-то аэродром. Да? Нет?
— Как хорошо! — произнес Андре. — Счастье. Вот это счастье. В полную меру. Да?
— Никогда не говори об этом вслух.
— Почему? — удивился он.
— У древних римлян было такое поверье. Такое правило, что ли… Нельзя показывать, что ты счастлив. Нельзя говорить об этом вслух. Абсолютное счастье — привилегия богов. Если простой смертный скажет: «Я счастлив», боги прогневаются и пошлют на его голову кару небесную. Это называется «Зависть богов».
— Суеверы твои римляне! — Андре обнял ее, мешая ей говорить. — Дураки побитые.
— Набитые, — поправила Соня. — Нет, в этом что-то есть. Я это где-то когда-то прочла и запомнила. «Зависть богов».
— Пускай завидуют.
— Вот ты мне — про «Плезьон де ля ви», а я тебе — про «Зависть богов»…
— Смотри, колесья! — перебил ее Андре, сев в стогу и притянув Соню к себе. — Колесья от… Как это? Русские сани? Тележка?
— Сани, сани… — Она проследила за движением его руки. Совсем рядом, в десятке шагов от стога, темнели два старых тележных колеса, почти вросших в землю, едва заметных в высокой полевой траве. — Это колеса от саней. — И она усмехнулась, вспомнив свое же: «Готовь Соню летом, а телегу…» — Это чья-то телега тут развалилась, Андрюша. Лет сто назад.
— Помнишь Бернара? — спросил он, помолчав.
Бернара? Еще бы! Огромный, шумный, веселый французский медведище. Могучие мохнатые лапы, жар необъятной ладони. Картошка в мундирах. «Я волнуюсь, заслыша французскую речь…» «Нормандия — Неман». Две недели назад. Вечность назад.
— А почему ты спросил? Помню, конечно.
— Я глядел на эти колесья. Я вспомнил. — Андре осторожно вынул соломинку из растрепанных Сониных волос. — Бернар начал тебе свой рассказ. Он не успел. Помнишь Надя? Его русская Надя?
Русская Надя, подавальщица в столовой летного городка, фронтовая любовь Бернара. Что-то в этом нарочитое, как в плохом кино.
Что же, жизнь иногда похожа на плохое, сентиментальное, слезливое кино. А плохое кино иногда похоже на жизнь. Так бывает. Ничего в этом стыдного нет. Бывает. Вот они сами, например. Француз и русская. Сидят в стогу. Нет, лежат… Уже лежат. Они лежат в стогу и целуются. Вечер, первый день осени. Теплынь, тишина. Они целуются. Старомодное, сентиментальное кино. Так не бывает.
Бывает, бывает! Все бывает на свете.
— Бернар не успел рассказать тебе все, до финала. Кончилась война. Он вернулся во Францию. Надя осталась в Союзе. Ну вот… Они забылись друг другу. Бернар вышел за свою жену. Да? Так у