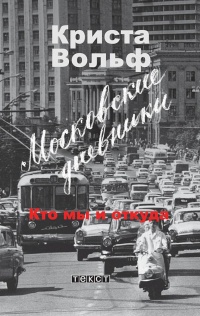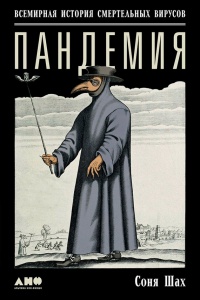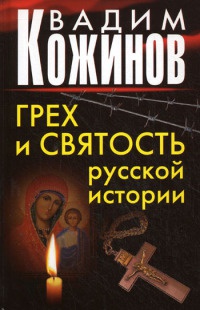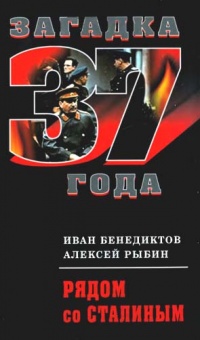за дверями комнаты! Сашка ломким баском рассказывает ей анекдот. Несмешной. Ну ладно хоть приличный… Слышно, как стучит утюг, водружаемый на гладильную доску. Это свекровь ему рубашки гладит. Послезавтра первое сентября.
А Соня стоит у дверей комнаты, прижавшись лбом к дверному косяку. Нужно войти.
Андре уедет через полгода. Он все равно уедет. Даже если Соня решится, даже если перестанет лгать мужу. Ну не сегодня, так завтра, послезавтра. Ей нужен еще один день. Она еще не готова. Она еще не может сказать: «Сережа, я ухожу!»
Послезавтра закончится лето. Будет осень. Первый день осени. Это последний срок. Да, первого сентября. К первому Соня накопит силы для удара. Броня крепка. Она войдет в дом и скажет. «Сережа, я ухожу».
Она перестанет лгать мужу.
Она начнет лгать Андре. Да, лгать, потому что он все равно уедет. Над Ла-Маншем мокрый снег, там Мари-Луиз, Натали и жена, о которой он, умница, не желает говорить дурно. Он уедет через полгода. Он не должен знать о том, что Соня свободна. Если он будет об этом знать, тогда ведь и он должен… Ничего он не должен! Тогда и он будет вынужден… Нет, никто его ни к чему не вынуждает! Тогда и ему придется… Нет! Ничего ему не придется! Нет. Ара!
— Господи, да что с тобой? — Сережа неожиданно возник у нее за спиной. Развернул к себе, обнял за плечи. — Поди ляг. На тебе лица нет. Знаешь, моя дорогая, если эта твоя Ирка с ее перманентной депрессухой вот так на тебя будет действовать, то я тебя к ней больше не пущу.
Соня послушно пошла, побрела за мужем в свою комнату. Здесь горел ночник. Здесь все теперь было чужим: чужая комната, чужая постель, чужое окно, а за окном чужие тополя шумят под ночным ветром.
На кровати, поверх покрывала, по-детски свернувшись калачиком, уткнувшись щекой в сведенные ладони рук, спала Сашкина Женя. Новая хозяйка бывшего Сониного дома. Голые розовые пятки, неизменные джинсы с веселой хипповой бахромой. Штук семь разноцветных дешевых пластмассовых браслетиков съехали по тонкой руке едва ли не к острому локтю…
— Привет! Это когда же она успела? — удивленно присвистнул Сережа. — Она Сашке весь день форму подшивала, брючины. На руках. Сто пятьдесят примерок, парень уже по потолку ходил. Настырная. Умаялась, значит. Сейчас разбужу, провожу домой. Она рядом совсем обитает, в Даевом.
— Пускай спит, — поспешно возразила Соня. — Позвони ее матери, предупреди. Я тебе в другой комнате постелю, а сама здесь лягу.
Соня опустилась на краешек кровати и, отвернувшись от мужа, едва ли не с благодарностью взглянула на эту девочку в дешевенькой польской джинсе.
Спи, наглая, хваткая девочка Женя! Спасибо тебе, спи крепко, избавь меня от неизбежной ночной повинности, от пытки. Страшнее нет кары, чем лежать рядом с обманутым мужем, зажмурив глаза, притворяясь спящей…
Спи, Женя, набирайся сил. Отнимешь у меня сына, отнимешь дом, отнимешь Сретенку. Будешь здесь хозяйкой ходить, победно гремя пластмассовыми браслетами, переклеивая обои, запрещая Сереже сметать остывшую яичницу прямо со сковороды, подрубая Сашке школьные брюки… Провожая его на работу, рожая ему детей, шепча ему ночью, вот здесь же, на этой постели — Сережку, старого, спившегося дурня, выживете из спальни в два счета, — шепча: «Ведь замечательно можно разменяться! Сретенка, центр. Нам двухкомнатную и папе что-нибудь… в Бирюлеве…»
Спи, девочка. Это твой дом. Это твоя жизнь. Мне здесь места нет. Я сама так решила.
— Мама, ты? — раздался Сашкин шепот за спиной. — Привет, мам.
Сын. Длинный, нескладный, узкоплечий. Кто-то его неумело, вкривь и вкось постриг: правый висок ниже левого, челка зигзагами.
— Тебя кто стриг? — спросила Соня, осторожно сжав его ладонь, такую большую, вдвое больше ее собственной.
— Женька. — Сашка присел рядом с матерью, с нежностью глядя на свою спящую красавицу. Потом перевел взгляд на Соню, как бы призывая разделить с ним его восхищение Женей, ее браслетами, ее джинсовой бахромой, ее розовыми детскими пятками, ее железным норовом и тем, как она его безбожно обкорнала, неважно, что челка синусоидой, важно, что сама стригла.
Соня взяла его большие ладони в свои, маленькие. Сын сидел рядом, обожаемый, отнятый, стесняющийся матери, этого внезапного, несвойственного ей порыва.
Сына отняли. Сама отдала. Не отдам!
Сретенку отняли. Сама отдала. Забирайте!
Соня сама так решила. Зато у нее будет полгода любви. Полгода свободы. Это так много! На десять жизней.
Сашка осторожно высвободил руки, изнемогая от неловкости. Белую рубашку, еще хранящую жар Полининого утюга, он набросил на узкие плечи. Ничего, он еще успеет раздаться в плечах, заматереть… Все впереди. Броня крепка.
— Саша, послушай меня, — тихо сказала Соня. — Если тебе когда-нибудь кто-нибудь скажет обо мне дурно…
— Кто, мама?
— Неважно. — Только без слез! Держись! — Если кто-нибудь скажет тебе обо мне плохо…
— Да кто? Ты о чем, мам?
— Ты не верь. Ты не верь, Сашенька. Никому не верь. Никого не слушай. Только меня, Сашенька. Ты мой сын. Я твоя мать. Когда они тебе…
— Да кто? Кто, мама?
— …ты вспомни мои слова, сынок. И не верь им. Ты не верь им, мой милый.
1 сентября 1983 года
Она думала о своих предках. Она мысленно благодарила их, посылая им безмолвные, благодарные приветы — всем, всем, неведомым, далеким, разбросанным по миру, жившим сотни лет назад, десятки лет назад, давным-давно завершившим недолгий ли, долгий ли путь земной.
Соня благодарила их сейчас, теперь, сегодня, лежа рядом со спящим Андре, глядя на него спящего. Все его прабабки, прапрадеды, бабки, деды — все, все: суровые каталонцы-виноградари, французы — обитатели угольных рудников, француженки-южанки, и русская бабка-оружейница, и бабка со стороны отца, в ней есть капля русской крови, — все они, эти мужчины и женщины, однажды встретились на земле, соединив свои жизни, зачав своих детей, продлевая род, прорастая друг в друге, готовя, неминуемо приближая Андрюшино явление. Явление Сониного божества в мир сей.
Всем, всем им Соня мысленно, истово, многократно кланялась теперь. Она лежала на животе, уткнувшись подбородком в сведенные локти рук, правый ее локоть покоился на его груди, там, где вмятина от давнего шрама, белый росчерк на смуглой горячей коже. Он смугл — привет тебе, каталонец! У него тонкий, резкий, породистый профиль — это его бабка-француженка, уроженка блистательной Ниццы… Он скуласт, ширококостен, плечист — спасибо русской оружейной родне.
Спасибо вам всем, давние дальние незнакомцы. Если бы не вы, не сплетение ваших жизней, не слияние ваших кровей, не соединение судеб в урочный, заглавный час, Сонина жизнь не была бы