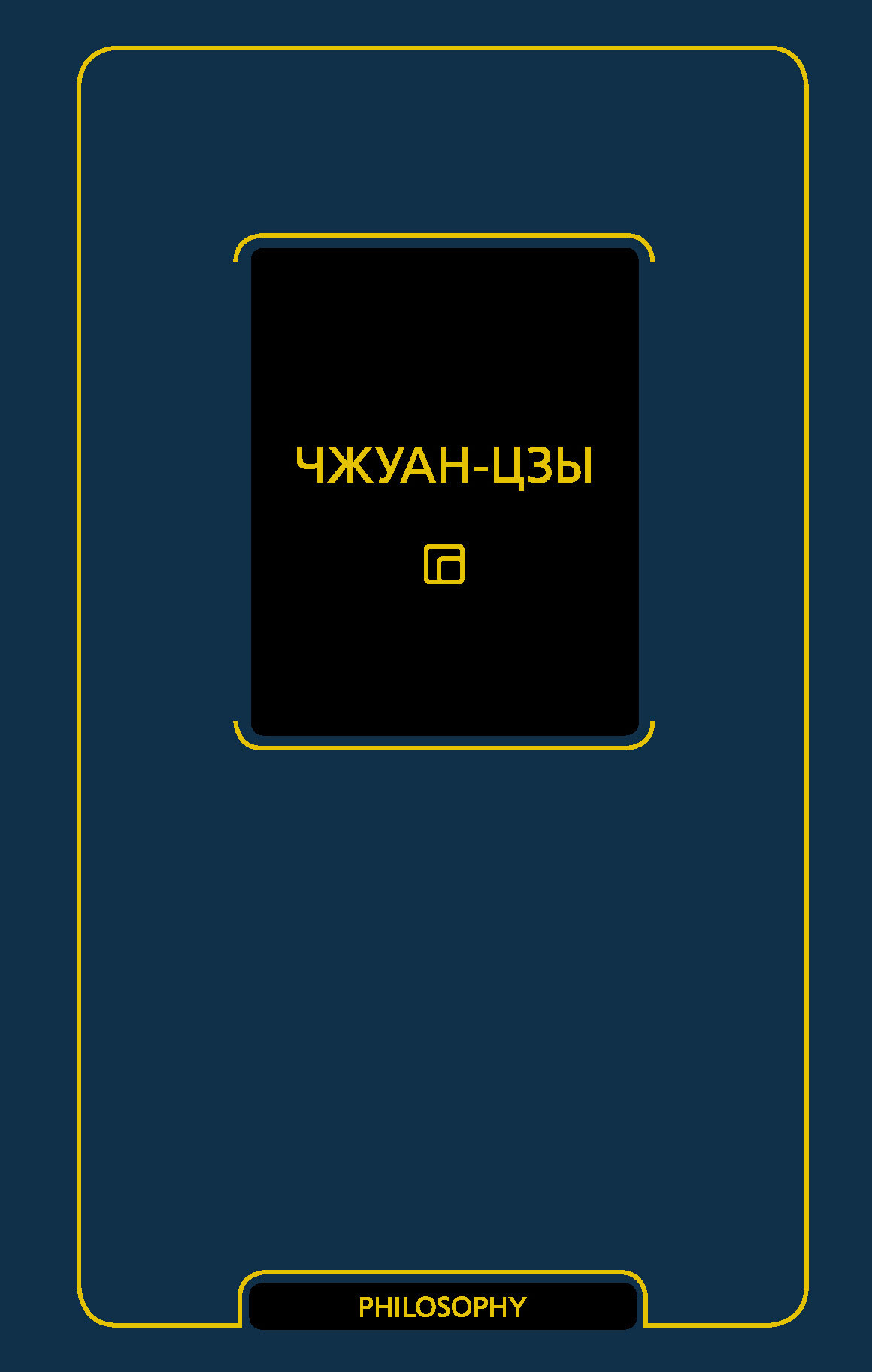им нужно было нечто противоположное: душевное успокоение, бесконечное Wogalaweia[93], искусство, абстрактное искусство45.
Они искали предохранительный клапан нравственности — «Испытывая отвращение к мясорубке мировой войны, мы предавались в Цюрихе прекрасным искусствам», «Наш вариант “Кандида”, направленный против существующей действителъности», наш вариант четырёхслойного одеяла — но дада разросся в среде цюрихских экспонентов и превратился в живое существо, которое вскоре на голову переросло всех участников «Кабаре Вольтер». Понимаете? Мы психоаналитики, мы немцы, мы читали Ницше, мы знаем, что если долго смотреть в глаза чудовищ, есть риск стать одним из них — за это нам и платят!
Всё это
Всё это сошлось вместе в кабаре 23 июня 1916 года, если не 14 июля, в арендованном зале, когда Балль, одетый как чародей в странный костюм, выдуманный Янко и смастерённый из картона его братом («Было весело его собирать, — говорил Жюль Янко в 1984 году, — но ещё веселей потом разбирать!»). На голове Балля был надет бело-голубой полосатый колпак высотой два фута, туловище было заключено в раскрашенный голубым обелиск. Вместо рук выглядывали большие клешни. Крылья, золотые сверху, красные на внутренней стороне, были прикреплены на талии по бокам; когда Балль распевал свои созвучия, два разных стихотворения, расположенных на пюпитрах по обеим сторонам от него, он взмахивал этими крыльями как птица.
Это было мгновение паники: Балль вдруг осознал, что не понимает, чего требует от него костюм, что не различает публику, не понимает значений этих бессмысленных слов (“blago bung ⁄ blago bung ⁄ bosso fataka”). К своему ужасу он понимал, что понижает голос как служивший мессу священник, когда он, маленький Хуго, преклонял колени вместе с папой и мамой двумя десятилетиями раньше; время сопротивлялось, но затем отступило. Это было мгновение высокомерия и страха, которое вынесло Балля вон из дада, вновь открыло ему дорогу в церковь и в конечном счёте пропустило его на телевидение.
Знаменитая фотография Хуго Балля, наряженного чародеем, использованная в “Dadaco”, Мюнхен, 1920
Ко времени
Ко времени своей данцигской лекции Хюльзенбек (это была не лекция, описываемых событий никогда не происходило, а слова, написанные прямым шрифтом, — цитата из его памфлета 1920 года “En Avant Dada”), благодаря продырявленным ещё в «Кабаре Вольтер» прорезям, уже видел всё это, гораздо больше, чем ему хотелось. Время шло, и он видел это снова и снова. «Дадаист — это реалист, любящий вино, женщин и рекламу», — говорил он в 1920 году; вскоре рекламой станет дада, дада будет повсюду, куда ни глянь, будет идти по следу и, как все остальные, он будет удирать от этого. Великая цель обрушения границ между искусством и жизнью будет достигнута, и это означало, что ничего больше не остаётся, кроме как размышлять о странном результате, при котором достижение великой цели не привнесло в повседневную жизнь преобразующую силу искусства, но лишь ослабило силу искусства, не сотворив ничего взамен, размышлять или рассказывать о легенде за гонорар, о славных денёчках в Цюрихе, я там был, — или вспоминать о том, что до того, как там появился дада, там уже была реклама шампуня «Дада».
В 1980 году Боб Акраман рекламировал пакет услуг для отдыха в парке развлечений в Новом Бельзене, и СМИ подхватили эту тему. К тому времени слово «дада» уже попало в словари, художники во всём мире притязали на него, выходили ежеквартальные выпуски, проводились конференции, собирались архивы, организовывались попытки возродить его, но если дада являлся живым, то местом его обитания были вот такие новости в ежедневных газетах, анекдоты, раздувавшие или никак не воздействующие на прозаичность откровенного-обмена-мнениями первополосной пропаганды — Боб Акраман, а не Энди Уорхол являлся настоящим неодадаистом, даже если и на этом уровне дада был репликой сам на себя: вчерашней новостью. Как ни крути — уже в 1921 году базельские «Новости» приглашали читателей на экскурсию на поля сражений в Верден, обещая «квинтэссенцию ужасов современной войны», настоящую жизнь как современное искусство, «незабываемые впечатления» от разрушенных деревень, от «огромных кладбищ, где захоронены сотни тысяч погибших», и все делали, делали, делали это — первого первым и обслуживают:
Не только для французов [Верден] является полем сражения par excellence, где произошла грандиозная битва между Францией и Германией… Если за всю войну потери Франции составили 1 400 000 убитых, то почти треть из них полегла в районе Вердена, охватывающего всего лишь несколько квадратных километров. Немцев здесь полегло в два раза больше. На этом маленьком клочке земли, где пролилась кровь более миллиона — вероятно, полутора миллионов — человек, не осталось и квадратного сантиметра почвы, который бы не был взорван гранатами. Позже путешественник сможет посетить поля сражений у Аргонского леса, у реки Соммы, прогуляться по руинам Реймса, на обратном пути заглянуть в Сен-Миель и Пастырский лес: но всё это только дополняет
умба-умба —
детали, которые в Вердене слились в беспрецедентную панораму кошмара и ужаса… вино, кофе и чаевые включены в стоимость путёвки.
Выдающийся венский критик Карл Краус был потрясён. «Я держу в руке документ, превосходящий и запечатлевший весь позор этой эпохи, которого самого по себе достаточно, чтобы определить местом славы для тушёного мяса, называющего себя человечеством, громадную яму с падалью»46, — писал он. «После ужасающего крушения фикции культуры… [эпоха] ничего не оставила, кроме обнажённой правды о своём состоянии, которое достигло той точки, когда уже нет никакой возможности лгать». Первое предложение Крауса написано языком Хюльзенбека, второе напоминает размышления Балля, но Краус не был дадаистом; он просто говорил то, что думал. Спустя пятьдесят шесть лет Sex Pistols преподнесут ему ответную запись, “Holidays in the Sun” («Бомбёжка! Бункер Гитлера! Берлинская стена! Вино, кофе и чаевые не включены!») — но каким образом прочерчивается линия от базельских «Новостей» через Карла Крауса, через экскурсионные расценки на вагоны для перевозки скота в Освенциме, к Sex Pistols и Бобу Акраману? Это та история, с которой воевали дадаисты и которую они претворили в жизнь, продемонстрировав её на сцене всю одновременно; свести эпоху и её язык к той точке, когда уже нет никакой возможности лгать, пусть даже это означает, что уже нет никакой возможности говорить, вот что было их целью. Находясь в начале этой линии, они впадали в экстаз, трепеща от того, что оказались правы. Затем они были извергнуты — но дада по-прежнему будет смеяться. Быть дадаистом значило быть человеком реальности, любить вино, женщин и рекламу; хранить улыбку на своём лице, песню в своём сердце и череп