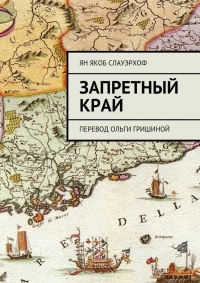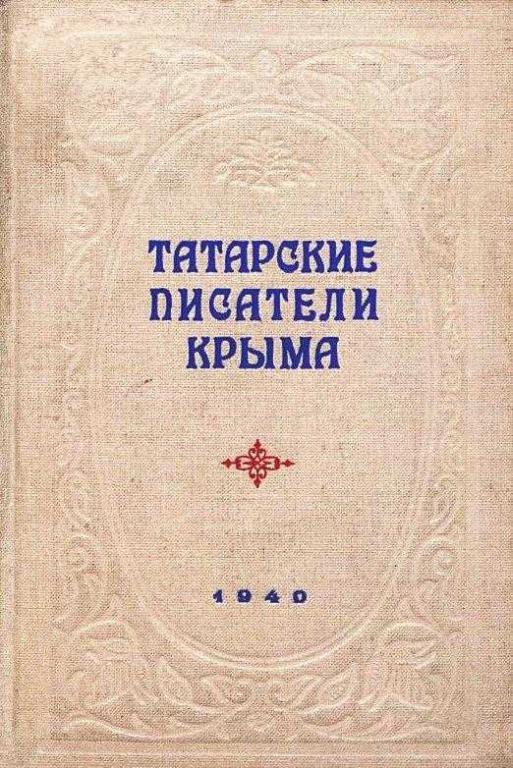да не в клопах дело, — ответили ему. — Зачем нас кормят постной нишей? Мы в святые не собираемся. Почему нам не разрешают пользоваться своими стаканами? Где это видано, чтобы арестованным запрещалось умываться с мылом?
— Слыхал, слыхал, господа, о ваших претензиях… Но это — особая статья! — поморщился инспектор, — Значит, на клопов не жалуетесь? Ну ладно, очень хорошо.
И инспектор вышел из камеры.
Потом он посетил тюремную больницу.
Все больничные палаты были битком набиты больными. По ночам никого не выпускали в клозет, поэтому в углу каждой палаты, распространяя зловоние, стояла параша.
Инспектор не заметил этих параш. Не обратил он внимания и на то, что тяжелобольные лежат в кандалах и умирают тоже в кандалах. Этого инспектор не увидел. Но зато заметил беспорядок в другом и тут же, в присутствии больных, сделал выговор врачу и фельдшеру:
— Почему в изголовьях кроватей не повешены таблички? На табличке должна быть написана фамилия больного, чем он болен и температура. Если этих сведений нет, то как, например, я смогу узнать, может или не может больной встать при моем приходе в палату?
На следующий день врачебный инспектор распорядился вызвать в кабинет начальника тюрьмы делегатов от арестантов, по одному человеку от камеры.
— С точки зрения гигиены питания постная пища приносит большую пользу, — сказал инспектор. — В постной пище содержится много полезных составных частей: в горохе — белок, в рыбе — фосфор…
(В тюрьме по средам, пятницам и другим постным дням кормили супом из хвостов мелкой рыбешки.)
Свое выступление инспектор заключил такими словами:
— Господа, советую вам не отказываться от предлагаемой пищи, а в отношении прочего последует особое распоряжение. Стаканы и мыло вам выдадут. Я скоро буду в столице, там я постараюсь защитить ваши интересы.
— Мы обдумаем ваше предложение, — ответили делегаты, и их развели по камерам.
В камерах с нетерпением ожидали возвращения делегатов, и как только те вернулись, к ним приступили с расспросами:
— Ну как? Что он сказал?
Делегаты сообщили, что им говорил инспектор.
Есть тюремную бурду никто не согласился. Решили продолжать отказываться от постной пищи, но при этом не делать ничего, что подало бы тюремному начальству повод для репрессий.
Вскоре во всех, камерах начали говорить, что надо бы придумать что-нибудь такое, что вынудило бы тюремщиков пойти на уступки.
— Нечего слушать начальство! — кричал один разошедшийся уголовник.
Политические предлагали ждать.
Терпения на ожидание хватило не надолго. Однажды утром Григорий Петрович услышал, как в соседней камере запели «Марсельезу». В его камере сразу же открыли окно и подхватили песню. К ним присоединилась еще одна камера, потом еще и еще, и скоро пела вся тюрьма.
Надзиратели в растерянности забегали по коридорам. Пришел старик начальник. Он вступил в переговоры с камерой, которая начала петь прежде других, но тут из другого коридора, потрясая тюремные своды, зазвучало, как гром:
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут!..
Раньше в тюрьме никогда такого не было. Начальник перепугался и позвонил губернатору. А тот приказал послать на усмирение бунта в тюрьме солдат.
Молодой каторжанин, стоя у окна, пел «Марсельезу», его сильный звонкий голос раздавался на весь двор.
Надзиратель со двора несколько раз крикнул ему:
— Отойди от окна!
Но каторжанин отвечал ему проклятьями и продолжал петь.
Пробегавший по двору старший помощник начальника Меркушев закричал на надзирателя:
— Чего спишь! Тут надо того… Стрелять надо!
Надзиратель выстрелил. Каторжанин едва успел посторониться, пуля просвистела у самого его уха.
Выстрел еще более возбудил заключенных. Песня зазвучала громче и мощнее. Раздались крики:
— Палачи! Убийцы!
В тюремном коридоре послышалась команда офицера, который привел солдат. В камерах притихли.
Офицер вошел в ту камеру, в которой сидел Григорий Петрович.
— Ну, молодцы, что вы тут натворили? — спросил офицер, подмигивая арестантам.
Все в камере заговорили сразу, перебивая друг друга. Кронштадтский матрос Власов распахнул рубаху на груди и, подступая к офицеру, закричал:
— Стреляйте, драконы! Колите штыками! Все рав-(Но нам здесь погибать от голода!
— Чего там с ними канителиться! — высунулся из-за спины офицера начальник тюрьмы. — Выходите по одному в коридор! Ну, быстро! Чего толчетесь, как овцы? Вывести всех до единого!
В камеру ворвалось с десяток надзирателей, они набросились на арестантов и поволокли их в коридор. В коридоре арестантов подхватывали солдаты, отводили в соседний корпус и запихивали в тесные одиночки камеры по два, по три человека.
Григорий Петрович попал в одну камеру с рабочим-большевиком Герасимовым.
Они просидели вместе неделю. Герасимов много рассказывал Григорию Петровичу о деятельности большевиков, о Ленине, объяснял, за что воюют английские и французские империалисты, почему погнала на фронт своих солдат Германия, почему оказалась втянутой в эту войну Россия…
Через неделю Григорий Петрович заболел, и его положили в больницу.
В больнице кормили лучше, а лечили из рук вон плохо. Фельдшер не был злым человеком, но всех больных он считал симулянтами. Доктор, седовласый старик, заявлялся в больницу всего раз в неделю. Когда он входил, палату сразу наполнял запах винного перегара, и начиналась «выписка» больных. Всех, кого доктор находил здоровыми, а вернее тех, кто первым попадался ему на глаза, он отправлял обратно в камеры. Зачастую бывало так, что арестант с какой-нибудь пустяковой болячкой оставался в больнице, а тяжелобольной туберкулезник возвращался в общую камеру.
Григорий Петрович поправился не от лечения — болезнь осилил его молодой крепкий организм.
Из больницы Григория Петровича перевели в одиночную камеру.
2
— Макар Чужганов! — крикнул ефрейтор.
Сакар вытянулся и замер.
— Кто я? — спросил ефрейтор.
Сакар молчал.
— Повторяй за мной, — приказал ефрейтор. — Вы изволите быть господин ефрейтор.
— Вы изволь… косподин… епрейт…
— Как? — сердито рявкнул ефрейтор и с размаху ударил Сакара по щеке. Сакар покачнулся. Ефрейтор хлестнул его по-другой щеке. — Стой прямо!
Теперь почти не бывало такого дня, когда Сакара не били бы…
Началось с того, что стражники и урядники избили его во дворе деда Левентея. Потом на пути в Царевококшайск в ронгинском лесу его снова жестоко избили. Его били по голове чем-то мягким, но очень тяжелым. Наверное, мешком с песком. После этого Сакар перестал что-либо соображать.
Он помнит, словно сквозь сон, как урядник Варлам Яковлевич несколько раз повторил ему:
— Ефремов Захар умер, а ты — Макар Чужганов. Понял? Ма-кар Чуж-га-нов!
Потом он стоял раздетый догола перед какими-го людьми. Человек в белом халате и в очках, видно, доктор, сказал:
— Годен…
Сакар пришел в себя только в большой казарме. Он никак не мог понять, как попал