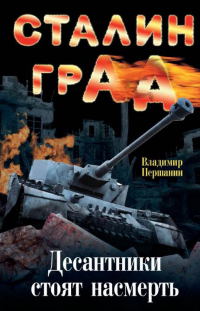— Чего ж не застрелил? — спросил Твердохлебов.
— А зачем? Лишний шум, пересуды… Я по-другому сделаю. Ты у меня за это еще кровью похаркаешь… — Харченко усмехнулся и снова начал писать. Карандаш летал по бумаге.
Твердохлебов угрюмо смотрел на него, курил. Наконец Харченко поставил точку.
— На-ка, комбат, прочитай и распишись.
Твердохлебов взял исписанные листки, стал читать.
Не дочитал, положил листки на стол, взял карандаш и расписался. Встал.
— Все? Могу идти?
— Нет, не все, — улыбнулся Харченко. — Боец твоего батальона девушку изнасиловал. Не буду тебе говорить, какой это позор! Какое пятно ложится на всю Красную Армию. Так что садись, гражданин комбат, говорить будем… Вопросы задавать будем, протоколы писать будем… дело шить будем!
А дело свое майор знал. Уже через пять минут выяснил все детали опознания, устроенного Твердохлебовым, а через десять перед ним сидел Савелий Цукерман.
— Почему же девушка так на тебя смотрела, а, Цукерман? — спрашивал майор Харченко. — Ты ведь с ней не знаком?
— Нет, не знаком, — Савелий был подавлен и напуган.
— Значит, видел ты ее раньше? Ну, хоть один раз видел? Ты только не ври, я же по глазам узнаю. Видел, да?
— Видел… утром… когда мы улицу прочесывали… Но я ее не трогал, гражданин майор, честное слово, не трогал!
— С кем ты улицу прочесывал? Фамилии! — Харченко взял карандаш.
— Ну что, Булыга, выкопал ты себе яму? — спустя еще полчаса спрашивал особист бывшего морпеха. — Мало штрафбата, да? Трибунала захотелось? А трибунал тебе теперь только вышку дать может, уразумел?
— Че стряслось-то, гражданин майор? Я же ни ухом ни рылом, про что вы мне тут поете?
— Мне даже неинтересно с тобой толковать, Булыга, — вздохнул начальник особого отдела и закурил папиросу. — Девчонку ты изнасиловал?
— Нет. Не знаю я никакой девчонки…
— Ты с Цукерманом улицу прошлым утром прочесывал?
— Ну?
— Ну, значит, ты и изнасиловал. Больше некому.
— Не-е-ет, гражданин майор, я под таким делом не подписываюсь, — категорически замотал головой Булыга.
— У меня подпишешься, — заверил его Харченко. — У меня, Булыга, один чудак подписался даже, что он есть двоюродный брат Гитлера, во как! — И начальник особого отдела захохотал.
— Не знаю я никакой девчонки, гражданин майор, не знаю! — остервенело твердил Булыга, и щека его начала нервно подергиваться.
— А Цукермана знаешь?
— Какого Цукермана? Ах, этого… Савелия, что ли?
— Ага, Савелия, — покивал Харченко. — Цукермана Савелия, его самого.
— Ну, знаю, ну и что с этого?
— А то с этого, что ты изнасиловал девушку.
— А может, он? Докажите! Может, это он девчонку изнасиловал?
— Брось, Булыга, не смеши меня, а то у меня живот заболит. Посмотри на себя и на того еврейчика — любому следователю и вопросов задавать не надо будет. Короче, Булыга, садись за стол… вот на мое место садись и пиши чистосердечное признание.
— Да вы че? — У Булыги даже пот выступил на лбу. — Какое признание? Под монастырь меня подвести хотите? За что, гражданин майор? Че я вам сделал?
— Если ты тут передо мной ваньку валять собрался, то я тебе и верно сделаю. Так сделаю, что расстреляют тебя и без трибунала. Завтра утром перед строем батальона. — Харченко так и хлестал Булыгу взглядом черных свирепых глаз. — Ты понял, сволочь, бандит, насильник?! Утром! Перед строем! Пиши давай, не доводи до худого!
Ни жив ни мертв, Булыга пересел на место, которое освободил Харченко, взял карандаш, умоляюще посмотрел на майор:
— Чего писать-то?
Харченко скривился презрительно, выдернул из пальцев Булыги карандаш и стал быстро писать сам.
Огонек керосиновой лампы тихо колебался, большие тени горбатились на стенах комнаты.
Харченко закончил, сунул бумагу Булыге под нос, приказал:
— Вот, перепиши и распишись. И дату поставь.
Пока Булыга переписывал признание, особист курил, размеренно ходил по комнате и о чем-то думал. Потом вскинул голову, посмотрел на Булыгу:
— Переписал?
— Ага… вот распишусь только…
Майор забрал лист, перечитал, затем сложил вдвое и спрятал в карман кителя:
— Эта бумажка будет теперь лежать у меня. Воюй спокойно. До тех пор, пока ты будешь делать то, что я тебе скажу.
— А че делать-то надо?
— Это я тебе сейчас растолкую. Иди на место…
Булыга пересел на табурет, а Харченко водрузился за стол, глядел на Булыгу ястребиными охотничьими глазами:
— Говорят, долг платежом красен. Правильно говорят?
— Само собой… — отвел глаза в сторону Булыга.
— Так вот, будешь пару раз в месяц являться ко мне в штаб дивизии и составлять подробный отчет. Кто что говорит, кто кого ругает, кто что делает. И главное внимание обратишь на Твердохлебова и его ротных, особенно этого… вора в законе, Глымова. Будешь в батальоне глазами и ушами особого отдела. Ты рожу не криви, я тебя от расстрела спас, но в случае чего… бумажке этой я ход дам, и загремишь ты на четвертак лагерей! Это в лучшем случае, если трибунал добрый окажется…
— Я не кривлю… я согласный.
— И расчудесно, Олег! — повеселел майор Харченко. — И по такому случаю…
Он выдвинул ящик стола, достал оттуда бутылку самогона, закупоренную кукурузным огрызком, две кружки, луковицу, краюху хлеба. Ловко нарезал хлеб, ножом развалил пополам луковицу, разлил самогон по кружкам, скомандовал:
— Бери, не тушуйся. Будем друзьями и соратниками.
Чокнувшись, выпили, захрустели луком.
— Хорош самогончик… — Харченко утер слезу. — Люблю, когда до печенок достает…
— И долго мне в стукачах ходить? — думая о своем, спросил Булыга.
— Не горюй, морская пехота! — усмехнулся Харченко, — Ты мне на комбата материал дай. И через пару-тройку месяцев я тебе погоны верну, и поедешь с чистой биографией в родную часть. Главное, материал дай!
— Чего это ты, майор, решил комбата закопать? — захмелев, нахально спросил Булыга.
— А вражина он, — со сдержанной злобой ответил Харченко. — Не наш человек — нутром чувствую! А для чего я партией и советской властью на эту должность определен? Чтобы таких вот тайных врагов на чистую воду выводить! И я его выведу! — Харченко ударил кулаком по столу. — И ты мне в этом святом деле поможешь! Поможешь?
— Помогу… — опустив голову, глухо ответил Булыга.
— Ну, тогда давай еще по одной. — И начальник особого отдела принялся разливать самогон по кружкам.