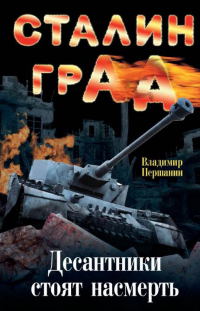В полуразрушенном доме ночевали человек двадцать штрафников из роты Глымова. Кто-то спал, расположившись вдоль стен, на охапках соломы, на тюфяках, найденных в брошенных домах. Другие еще курили, разговаривали. Где-то за домом губная гармошка играла простую заунывную мелодию. Рассвет серел за окном.
В большой комнате на снарядном ящике чадила заправленная керосином сплющенная гильза. Вокоут ящика сидели солдаты, слушали, затаив дыхание и раскрыв рты, а худой мужчина в распоясанной гимнастерке увлеченно рассказывал:
— Он, значит, этого старика перетащил в свою камеру, а сам оделся в его рубище и притворился мертвым. Ну, стражник заходит, видит, старик помер. Его запихивают в мешок, завязывают и со стены сбрасывают в море. Он, значит, ножом мешок взрезал, всплыл и пошел к берегу. Ну, в тюрьме, понятное дело, хватились, что граф обхитрил их и сбежал. Но уже поздно — ищи его свищи! А граф добирается до прибрежной деревухи, сооружает там небольшую лодку и плывет по карте на другой остров.
— По какой карте? — спрашивает кто-то.
— Ну, я ж говорил, старик ему карту нарисовал того острова, где сокровища были спрятаны, забыл, что ли?
— A-а, ну так бы и говорил…
— А я как говорю?
— Так ты ж не сказал, что он эту карту с собой прихватил.
— А это трудно самому сообразить? — начал закипать рассказчик.
— Да не обращай ты на него внимания, Павел Никитич, давай, трави дальше! — раздались сразу несколько нетерпеливых голосов.
— Ну-у, хорошо… — Павел Никитич задумался, словно вспоминал, и продолжал. — Добрался он до острова, по карте нашел место, где закопаны сокровища, выкопал и отправился обратно. Что же он решил? Он решил отправиться в Париж и начать мстить всем, кто его посадил.
Булыга пристроился рядом с каким-то солдатом, стрельнул у него окурок, затянулся и спросил негромко:
— Чего он травит?
— Граф Монте-Кристо, — ответил тот.
— Чего-чего? — переспросил Булыга.
— Граф Монте-Кристо.
— Это про что? — не унимался Булыга.
— Заткнись, дай послушать.
Булыга стал слушать, а глазами искал Савелия Цукермана. И наконец нашел, вцепился взглядом, как коршун в курицу. Но Савелий ничего не почувствовал — он смотрел на рассказчика, казалось, слушал со снисходительной улыбкой, но вспоминался ему школьный вечер, посвященный годовщине Октября, убранная кумачовыми полотнищами сцена с огромным портретом улыбающегося товарища Сталина и надписью большими серебряными буквами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!»
Душа навек тебе верна, ведь я твой сын, моя страна!
Мой путь широк. Мне цель ясна, я коммунист, моя страна!
Винтовка меткая грозна, я твой солдат, моя страна!
Я, чья рука тверда, сильна, строитель твой, моя страна!
В великой схватке мировой я знаменосец твой! —
читал Савелий в глубокой тишине, стоя на авансцене.
Он замолчал, переводя дыхание, и зал обрушился аплодисментами, а Савелий стоял растерянный, в вельветовой курточке, белой рубашке, взмокший от волнения, и неловко кланялся.
И потом, когда он спустился со сцены, его окружили ученики, хлопали по плечам, спине, орали в самое ухо:
— Здорово, Савва! Молоток!
— Савка, ты просто чтец-декламатор!
— Слушаешь — мурашки по коже!
— Ты — талант, Савка!
И, растолкав всех, подбежала одноклассница Таня Овчарова, проговорила, глядя на него огромными сияющими глазами:
— Ты замечательно читал! Ты… молодец! — и, не стесняясь, громко чмокнула его в щеку.
И все вокруг захохотали…
— А к тому времени, надо сказать, — слышался голос рассказчика, — тот офицер, ну, который на него донос надиктовал, а матрос написал под его диктовку, так тот офицер стал в Париже большой шишкой — генерал, депутат парламента, женился на невесте графа Монте-Кристо.
— А когда он на ней женился? — опять влез дотошный слушатель, и тут сразу несколько голосов взрываются:
— Пока граф на острове Иф сидел!
— A-а, ну так бы и говорили.
— Тебе, мудаку, по десять раз повторять надо? Заткнись, а то на улицу вылетишь!
— Извиняй, Павел Никитич, давай дальше…
— Первым делом граф Монте-Кристо навестил бывшего матроса. У того к тому времени была своя харчевня, жил он паскудно, с женой все лаялся, денег не хватало. А граф оделся монахом и пришел вечером в харчевню… — продолжал свой рассказ Павел Никитич.
Глымов слушал, прикрыв глаза, прислонившись спиной к стене. И его одолевали воспоминания.
…Ах, планчик, ты — планчик,
Ты Божия травка, отрада бессонных ночей,
Как плану покуришь — родной дом забудешь,
А с планом и жить веселей… —
пел под гитару лихой чернявый парень с бандитской челкой тех далеких времен, с татуированными руками и плечами, с золотой фиксой.
Подпевали ему размалеванные шалавы, уже порядком выпившие и дымившие папиросами. Подпевали двое бандитов, только белобрысые, но с такими же косыми челками и татуировками. Не пел только Антип Глымов и девица, которую он обнимал за плечо. Антип был в белоснежной рубахе, плисовых штанах, заправленных в начищенные хромовые сапоги. На безымянном пальце левой руки красовался здоровенный золотой перстень с бриллиантом.
Стол ломился от водки и закусок. И был он, конечно, круглый, а еще стоял в комнате старинный резной ореховый буфет в углу, со стеклянными дверцами, со множеством ящиков, и широкая кровать с высокой пышной периной и горой пуховых подушек, и шкаф для одежды, тоже старый, тоже ореховый…
Глымов поцеловал девицу, спросил шепотом в ухо:
— А захомутают меня, ждать будешь, Райка?
— До гроба ждать буду, Антипушка… — Райка вся прижалась к нему, и губы ее ждали нового поцелуя. — Ох, и сладко ты целуешься, Антипушка…
Увидев, как Глымов целуется с Райкой, чернявый прихлопнул струны ладонью, перестал петь.
— Ну и стервь ты, Райка! То мне в любви клялась, а теперь с Антипом обжимаешься!
— А мне он теперь милее, — с вызовом ответила Райка, а девицы за столом захихикали.
— Не горюй, Мирон, бабы завсегда любительницы рога наставлять, — пробасил один из белобрысых бандитов, разливая водку по стаканам. — Давай, мужики, хряпнем по малой! Девки, бери рюмахи!
И все выпили, стали закусывать. Мирон не сводил горящих черных глаз с Райки, твердил упрямо:
— Не, Антип, так не пойдет! Райку так запросто не отдам. Я так не желаю!
— А как ты желаешь? — усмехнулся Глымов.