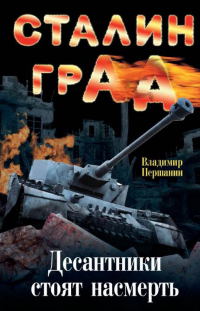— Н-да-а… — покачал головой Твердохлебов. — Не вышло разговора… И все-таки, честно тебе скажу, жалко мне тебя, капитан. Уж лучше б ты в Гражданскую войну загинул… оно бы благороднее было.
Твердохлебов выплеснул из кружки не тронутый капитаном самогон на пол, рассовал кружки и бутылку по карманам шинели, взял горящую плошку, поднялся и сказал:
— Завтра особисты нагрянут, сам понимаешь, что с тобой будет… Так вот, чтоб тебе… как офицеру русскому лишних мук и позору не терпеть… — Твердохлебов вынул из кобуры пистолет, положил его на пол рядом с капитаном и пошел к двери. Вдруг обернулся, добавил:
— Там один патрон. В стволе уже…
Он вышел. Солдат, дремавший на полу, вскочил, задвинул за ним засов.
— Бывай. Сейчас смену пришлю, — сказал ему Твердохлебов и пошел по коридору. Он не сделал и десятка шагов, как из-за двери грохнул выстрел.
Твердохлебов, Глымов, Балясин и Шилкин не спали. Сидели на втором этаже горсовета в обществе бывшего председателя этого самого горсовета Тимофея Григорьевича Зимянина, пили самогон, ели вареную курятину и картошку и говорили о войне.
— Поначалу как было? — говорил Зимянин. — Немец сытый, уверен, что его верх будет… ну, и к населению подобрее был. Особенно солдаты. Мы уж в партизанах вовсе приуныли — ни оружия, ни взрывчатки, ни провианту. Они нас, как волков, обложили. И фронт неизвестно где. По радио Совинформбюро слушаем — не поймешь ни хрена, где наши, чего наши?
Собеседники невесело рассмеялись.
— Вот вы смеетесь, а нам тут, как волкам, выть хотелось, — с горечью укорил Зимянин.
— Когда у немца слабину почуяли? — спросил Твердохлебов.
— Аккурат после Сталинграда! — Зимянин принялся разливать самогон по кружкам. — Пугливый стал… звереть начал… обмороженные раненые пошли, худые, немытые. И новобранец у них пошел заморенный. Пацаны… очкастых много, худющие, голодные. Короче говоря, не те вояки! Ну, и у нас получше с оружием стало, взрывчатку стали подбрасывать…
— Кто?
— Как кто? Штаб партизанского движения. С самолетов кидать стали. Рацию нам скинули. И вот тогда мы поняли — дела наши пошли в гору. И немцев стали побольней щипать… Ну, давайте, товарищи бойцы-командиры, хучь вы и штрафные, а я вас все одно люблю и уважаю, с освобождением моего родного Млынова! Теперь восстанавливаться будем… За то и выпьем!
И они чокнулись кружками и выпили, заедая хлебом и огурцом, с хрустом перемалывая курятину вместе с косточками. За окном медленно серел рассвет.
— Всю ночь проколготили… — сказал Твердохлебов. — Скоро товарищ Харченко со своими опричниками нагрянет.
Тут дверь отворилась, и вошел старик в очках, в рубахе-косоворотке и темном пиджаке.
— Подгребай к нам, Максимыч, — пригласил его Зимянин.
— Да не, я ж непьющий. Язва меня замучила… Слышь, Тимофей Григорьич, девка-то повесилась…
— Какая девка? — не понял председатель горсовета.
— Которую ихний молодец снасильничал, — старик кивнул в сторону Твердохлебова.
— Вот-те раз… — оторопело протянул Твердохлебов. — Опять обухом по голове.
— Н-да, нехорошо получилось, — вздохнул председатель.
— Молодца хоть нашли? — спросил Глымов.
— Да хотел я этой девчушке опознание сделать, — расстроился Твердохлебов. — Зря, видно… Девчонка, небось, в отчаянии была… шутки пошли разные — она в плач…
— В лагере насильникам яйца отрывали, — сказал Глымов.
— Этот, кажется, чего-то знает… Цукерман Савелий, — сказал Твердохлебов. — Но молчит. А может, и не знает… может, показалось мне, черт разберет…
Старик сам сколотил гроб из обгорелых досок. Гроб стоял в горнице на столе, рядом на табурете сидел дед Зои и десятка полтора женщин и мужчин.
Было уже позднее утро, и вокруг дома собралась небольшая толпа жителей, в основном соседей. Все скорбно молчали.
Савелий долго топтался среди жителей, пока наконец не решился войти в дом.
Он открыл дверь в горницу, и взгляды стариков разом обратились к нему. Савелий стоял у порога и не решался подойти к гробу. Так и стоял, опустив голову, мял в руках пилотку.
Дверь сзади скрипнула снова, и в комнату вошли Твердохлебов, Глымов, Балясин и Шилкин. Савелий отступил в сторону, освобождая им дорогу, и командиры прошли к столу. Старик взглянул на них невидящими глазами, но ничего не сказал.
Постояв в скорбном молчании, командиры пошли к выходу. Твердохлебов выходил последним, встретился взглядом с Савелием — тот мотнул головой, увел глаза в сторону.
— Потом поговорим, — тихо сказал Твердохлебов…
— Нарубал ты тут дров, комбат, ох, и нарубал! — качал головой начальник особого отдела Харченко и почти с сожалением смотрел на Твердохлебова. Тот сидел перед майором на стуле, курил самокрутку:
— А что такого особенного случилось?
— По-твоему, ничего особенного? Архаровцы твои девушку изнасиловали — раз. Пленный власовец застрелился — два! От жителей заявления вот лежат — мародерствовали твои чудо-богатыри! А для тебя ничего особенного? — Харченко встал из-за стола и заходил по комнате. — Как это власовец застрелился?
— Из пистолета…
— А что ж ты не расскажешь, что к нему ночью заходил?
— А чего рассказывать? Ну, заходил.
— Зачем?
— Поговорить. Узнать, как он дошел до жизни такой, — спокойно отвечал Твердохлебов.
— А чтоб разговор легче пошел, самогоночки прихватил? Выпили, закусили… — кривя губы, быстро говорил Харченко. — Хорошо выпивать с заклятым врагом, предателем, хорошо, да?
Этого Твердохлебов не ожидал, моргал ресницами, молчал. Харченко торжествующе смотрел на него — попался, комбат!
— Чего ты от меня хочешь, майор? — наконец медленно спросил Твердохлебов.
— Правды хочу, — просто ответил майор Харченко. — Правды и только.
— Какой правды?
— О чем вели беседу советский офицер, хоть и разжалованный, но все-таки офицер, и предатель родины власовец, тоже, кстати, офицер. Так о чем вы балакали, выпив самогону?
— О родине…
— Ох, ты-ы, красиво как!
— Что он ее предал и дороги у него обратной нет.
— Хорошо, так и запишем… — Харченко действительно сел за стол, подвинул к себе стопку бумаги и стал быстро писать карандашом. Потом вдруг оторвал взгляд от листа, спросил:
— Надеюсь, не забыл, как ты меня ударил?
— Нет… не забыл.
— Я ж тебя тогда застрелить мог к чертовой матери! И суда надо мной никакого не было бы. Любой трибунал вошел бы в мое положение — оскорбление офицерской чести, понимаешь?