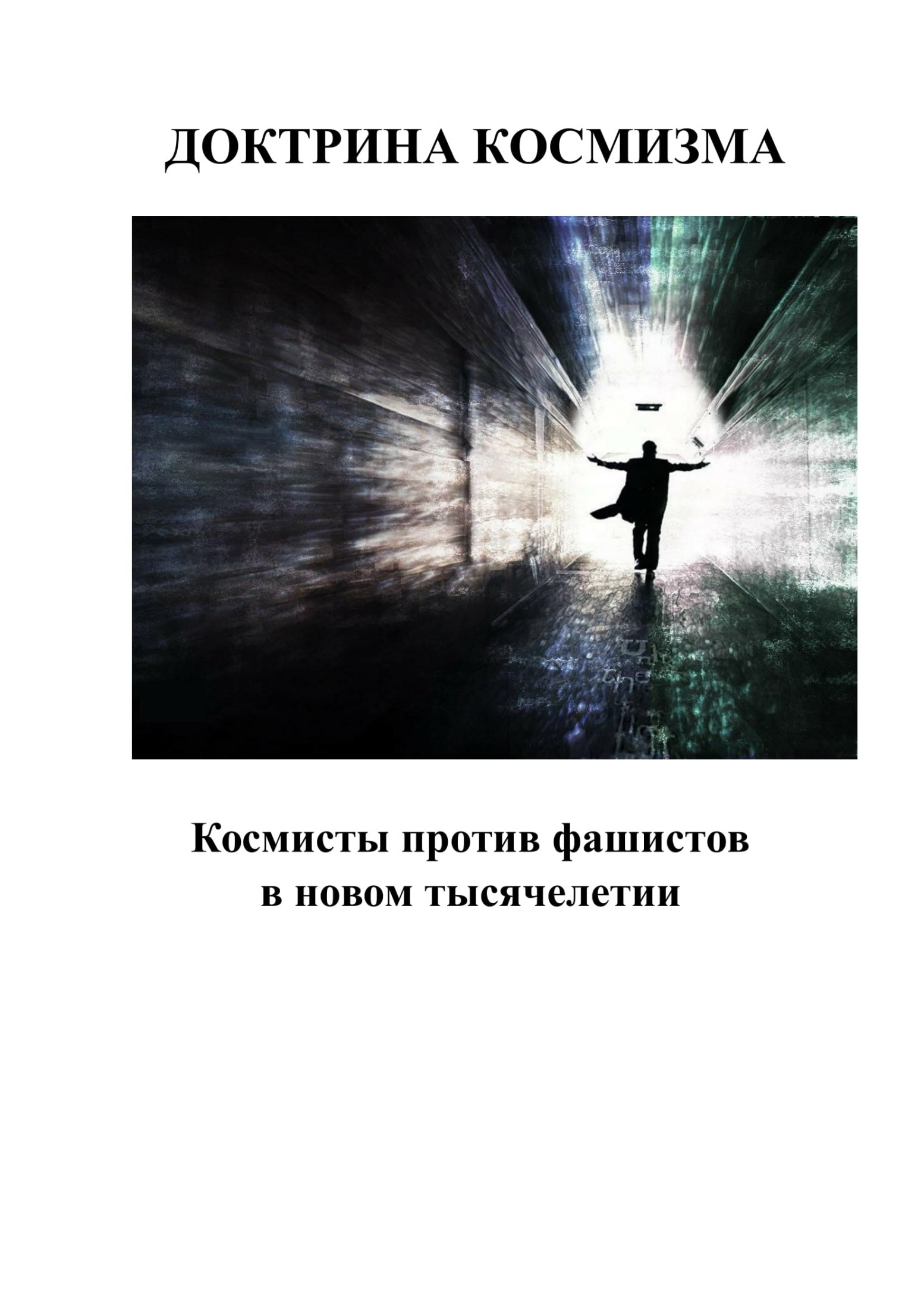и снова погрузиться в абсолютное, которое цельно и едино в себе и во всем, но с своей стороны подобной жажды вовсе не чувствует и только пользуется ею в индивидуальностях для реализации своей бессознательной цели, — мирового процесса. Последний же требует увековечения индивидуума, и вот в любви жажда к освобождению от единоличного существования сама же становится средством к тому, чтобы сделать достижение ее цели до поры до времени невозможным и отодвигать ее дальше и дальше. В этом и состоит метафизический обман любви... так как смерть — единственный истинный избавитель и спаситель индивидуальной обособленности каждого лица. Любовь же только кажется таким избавителем, заблуждается в сознаваемой ею цели, и вместо того, чтобы разбивать грани индивидуальности, она увековечивает их и создает поколение за поколением для перенесения мук личного существования, чтобы опять обманывать поколение за поколением кажущимся разрушением уз индивидуализма... И горе несчастным, которые бессознательно служат целям мирового процесса, жертвою любовной страсти!“6 Словом, любовь, как и голод, опять таки — чуждое нам, не наше дело. Нам принадлежит в ней только мучительная тоска личной обособленности и жажда отделаться от последней, слиться в одно с любимым существом и обнять в лице его абсолютное, всю вселенную. Но как только объятие совершилось, завеса тотчас же падает с наших глаз, и мы уже не сомневаемся в том, что не всю вселенную держим в своих руках, а такое же томящееся одиночеством существо, как мы сами, и притом от него даже остаемся обособленными, каждый со своею индивидуальностью, как было раньше. Иллюзия рушилась, но мировая Воля уже успела достигнуть своей цели, потому что в объятиях двух обманутых существ совершилось зарождение третьего, о котором первые два вовсе не думали, тогда как именно об нем-то и шла речь и ради него заведена была вся эта процедура. Мы стремились к освобождению от тоски индивидуальной обособленности, путем слияния с другою индивидуальностью, а между тем в результате оказывается только появление третьей, т. е. достигнута цель прямо противоположная той, которой мы добивались! Уж это ли не надувательство со стороны природы, а с нашей стороны — не преследование чужой цели?! Если мы рабы по отношению к голоду, то по отношению к любви являемся простыми поденщиками. Природа — великий фабрикант, который только и занят, что произведением жизни. Двери фабрики открыты настежь: каждый найдет в ней работу: пожалуйте, милости просим! Но только весь плод труда рабочих идет в пользу патрона, а рабочим выдается призрачная рабочая плата, каждому, впрочем, по степени его усердия. Плата эта состоит в иллюзиях счастия, которые испытывает каждый. Но рабочим скоро делается противно работать в пользу другого, усердие их уменьшается, плата иллюзиями все более падает, и рабочий наконец покидает фабрику с расстроенными силами и потерянною верою в гармонию мирового процесса. А фабрикант только насмешливо посвистывает, отлично зная, что на смену тотчас же явится новый рабочий, свежий и бодрый, а общей забастовки рабочие устроить не могут и не захотят... Итак, вот что такое любовь — фабричная работа за поденную плату; заметьте: — фабричная, т. е. грубая, без тонкости отделки.
VI.
Пессимисты, без сомнения, вполне верно подметили психологическую основу любви в тоске индивидуального существования и стремлении пополнить себя, расширить пределы своей личности путем слияния с другим лицом „в плоть едину“, как метко выражается церковь при совершении таинства брака. Здесь точно на самом деле оправдывается старинный миф о том, как человек когда-то разорвался на две части и теперь страстно отыскивает другую половину своего „я“, но постоянно попадает на „чужие“ половины, а „своей“, в массе рассеянных по всей земле существ другого пола, никак отыскать не может. Две человеческие половины страстно кидаются друг другу в объятия, так сказать, примериваются и, увидав, что одна к другой не подходит, что они друг другу „чужие“, отпрыгивают назад и направляют поиски в другую сторону... Подобным психологическим объяснением любовной страсти пессимисты ставят любовь, — как проявление тоски индивидуальной обособленности, как стремление выйти из тесных рамок личности и „обнять абсолютное“, — в один ряд с целою серией других проявлений „инстинкта мировой жизни“, каковы религиозное и нравственное влечение, национальное и родовое чувства, честолюбие и т. д. Все это, по учению пессимистов, представляет несколько ниточек в руках мировой Воли: подергивая ими, она заставляет нас служить „своим“ целям, целям мирового процесса, сохранению и развитию жизни и вида. Все эти чувства действительно стремятся охватить людское сознание такою густою сетью импульсов к „мировой жизни“, что делается положительно трудным представить себе человека, который, будучи охвачен ими, действовал бы сообразно целям личного счастия. Между тем чувства эти несомненно обладают большою силою и нередко, в отдельных личностях, охватывают всю жизнь и все существо человека. От любви они отличаются именно прочностью создаваемых ими иллюзий, — хотя в то же время способны рождать и аффекты, по своей интенсивности не уступающие пароксизмам любви и увлекающие человека, не смотря на перспективу страшных страданий и даже потери жизни. Вместе с тем, если некоторые из этих чувств слабеют с поступательным ходом человеческой цивилизации, то другие, именно альтруистические, развиваются с такою силою, что в конечном пределе их развития, повидимому, следует предвидеть полную „социализацию“ человека, в pendant и в связи с „социализацией“ производства и распределения богатств. Мы далеки от мысли пугать кого бы то ни было этою перспективою и даже готовы допустить, что социализированный человек будет чувствовать себя свободнее и лучше в социализированном обществе, чем современный переходный человек в современных переходных обществах. Но, за всем тем, эвдемонологическое значение альтруистических чувств, как и других проявлений инстинкта мировой жизни, представляется, в настоящем и будущем, в высшей степени загадочным и странным. Цели их, насколько они чужды нам и полезны обществу, виду, мировому процессу, для нас вполне и с первого взгляда понятны; но, напротив, полезность их для нас лично постигается нами не без значительного мозгового усилия или не понимается вовсе. Мы легко понимаем значение патриотизма и любви к родине в деле обеспечения развития и процветания человеческих обществ, но с недоумением спрашиваем себя: какое удовольствие доставляет человеку ностальгия и с какой стати dulce et decorum est pro patria mori7? Нам понятно желание „племянника“ овладеть Францией с целью уплатить долги и обделать иные делишки, но кажется вполне странным бескорыстное стихийное честолюбие „дяди“ и его желание властвовать над Европою. Какая ему была в том польза?