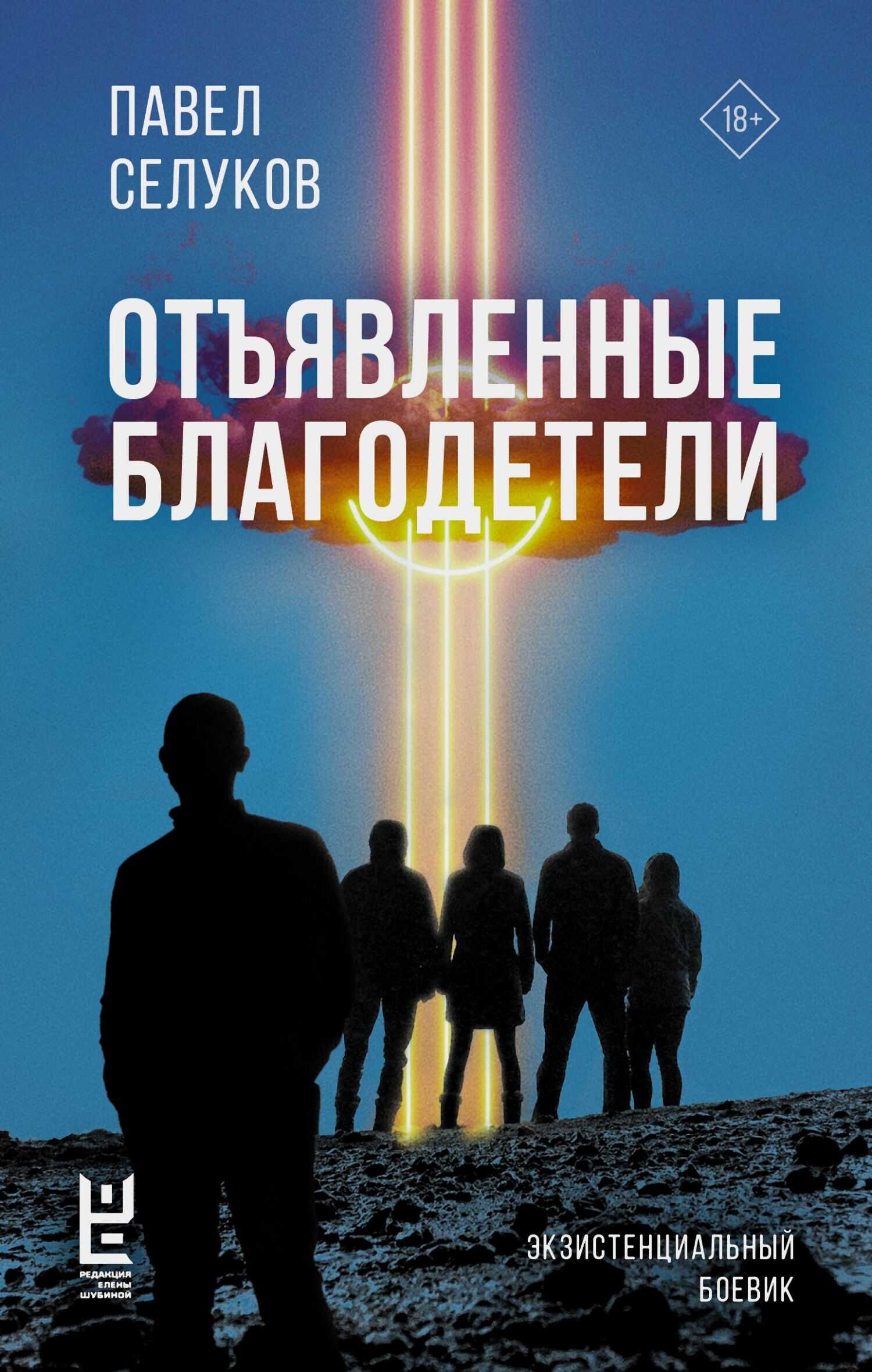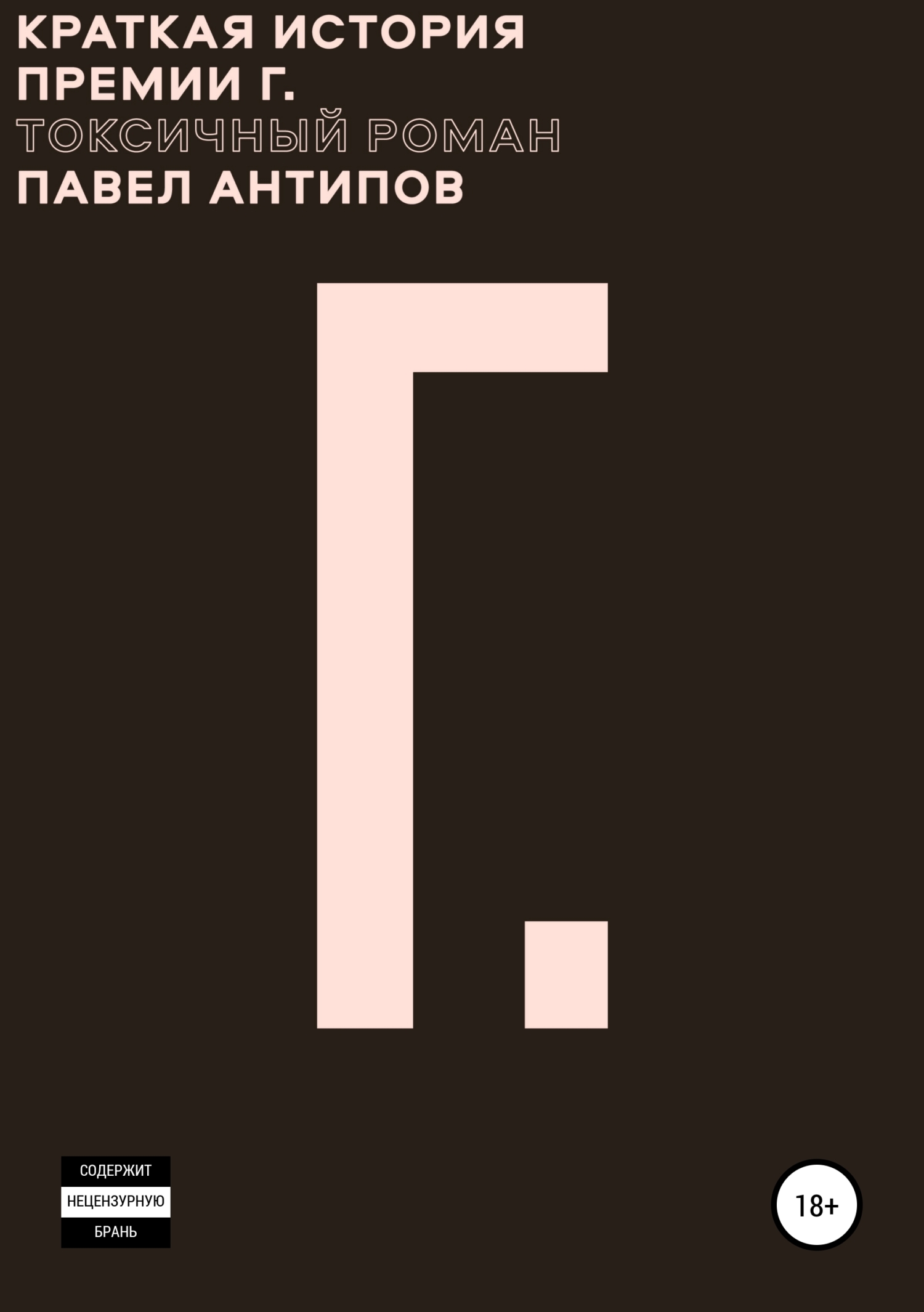а раненые приподымались с носилок и безудержно продвигались вперёд, к Москве.
Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной близости, привычно и бездумно предназначенной, предначертанной ни к чему, в глазах короткими вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса чёрной, пропоротой незакреплёнными сошниками земли, затем он видит себя в новосибирском госпитале, где хирург, усатый медицинский подполковник, зовёт его пить спирт с чувством какой-то ровной и облегчающей скорби и за спиртом предлагает ему подменить только что скончавшегося важного полковника. И опять крики, полоса чёрной, пропоротой незакреплёнными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Ко- ротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, причём всё экстренно, с заклинаниями о бдительности, секретности и особой важности. И что же дальше — для чего это делалось? Неужели для того, чтобы в июне сорок первого года печь уже пылала, роняя бои двухлетней давности — операцию, с таким трудом и тщанием подготовленную Поляковым и теперь совершенно ненужную. Её следовало отменить, остановить — ещё можно было успеть. FUGA 10
К рассвету позади осталось более ста пятидесяти страниц. И всё меленько, меленько путался, не направляясь, поёживаясь, великий подвиг самопожертвования. Они не знали, что их ждёт, но что бы их не ждало, их было трое, тех, кто с ожесточением от необходимости в полусне принял из материных рук что-то ужасающе огромное. Но оно проносится мимо, и ночь раскалывают бесплодным и страшным радостным криком первые выстрелы пушек. Много километров осталось позади, и выстрелы раздались глухо, но каждый услышал их, потому что на большее у нас не хватило бы взглядов, отрывков музыки, улыбок, прикосновений, — поздняя летняя заря погасла без долгих раздумий, со света двор показался кромешно тёмным, и глаза не сразу обвыклись, не сразу отделили от земли туго обтянутые хромовыми голенищами ноги. Он всё ещё пытался командовать ими или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и слепящие свет и тьма, крики, грохот разрывов, скоропечать автоматов, в хаосе, разодравшем в клочья что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел — любыми усилиями скрывать свои намерения, создавать угрозу одновременно в нескольких местах, заставляя тем самым противника рассредоточивать силы. Присев на край окопа и глядя в звёздное небо, куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся — вызывающе и с ожесточением, собрав последние силы, с горечью отдав должное казнящей боли, когда хотелось понять: почему меня надо равнять с другими, почему нам уготовано одинаковое наказанье?
Давно стемнело. Заканчивался день 21 июня. Доехали мы с С. К. Тимошенко до подъезда наркомата молча, но я чувствовал, что и наркома обуревают те же тревожные мысли. Выйдя из машины, мы оглянулись на остальных, пытаясь заглянуть в лицо каждому: старики курили и бормотали, молодёжь-холостёжь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костёр, подогревая чайник за чайником, а жернова всё ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и всё сыпалась и сыпалась земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесёт тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в бледные цветы клевера, сурепки и курослепа, упрятав под себя ноги. Он наперёд знал, что так оно и будет и, заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придёт. Спал он теперь урывками. Едва заметными линиями карандаша он разделил северную часть леса на три сектора и, зажав в жмене налитый до обода стакан так, что стакан помутнел от боли, потёр рукой щетину и сказал только одно слово:
— Нет.
Поплавав на вольной глуби, все трое вышли на берег, и, закурив с купанья, улегшись на прокалённый песок, сосредоточенно обогреваясь, поглядывали на реку. Три маленьких
рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Жизнь — кто ей позволит? FUGA 11
Степь затихает в ночи, но всё же множество неясных разрозненных звуков свидетельствует о присутствии вокруг огромной силы войны. По небу, гонимые ветром, бежали низкие, серые, рваные облака; сквозь них помаргивали бледные осенние выстрелы, медленный гром в небе то ширится, разгораясь, то улыбается, чувствуя, что сломан обычный, привычный порядок немецкой газеты, характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, глядя на карту, раскрытую на столе, он чувствовал себя в силе гнуть, двигать линию фронта, он мог заставить взреветь приглушённым танковым гулом, конским ржанием, далёкими взрывами тяжёлую артиллерию мироздания. И мы опять пьём. За стариков пьём, за Киев, за Берлин и ещё за что-то, не помню уж за что. А кругом всё стреляют и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке «барыню». FUGA 12
Сейчас трудно сказать, какая сторона имела больше потерь. Вперёд, не обращая внимания ни на что, как можно глубже в оборону противника — было неписаным правилом каждой наступательной операции. Рельса всё ещё надсадно гудела. А танки остались. Скорее всего, это произошло именно так. Когда всё хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для чего люди вплотную подступали друг к другу среди грохота пальбы и разрывов на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись и заречного острова не достигнув, но всё же час, другой, третий, пятый народ будет идти, валиться в реку, без мыслей, без желаний, без устремлений, без памяти, без тоски о прошлом, ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на
солому, я смотрю в небо и ни о чём уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. FUGA 13
Итак, какие же выводы вытекают из приведённых фактов?
Нынешней ночью она, наверное, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо её ещё больше обрезалось; жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз и беззубого рта скорбно обозначили очертания проступившего праха, и расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак величия и неполноценности далёкого и непонятного государства, и она послушно состарилась, надеясь услышать звеняще- отчаянный вальс первых вражеских ударов. Подол её