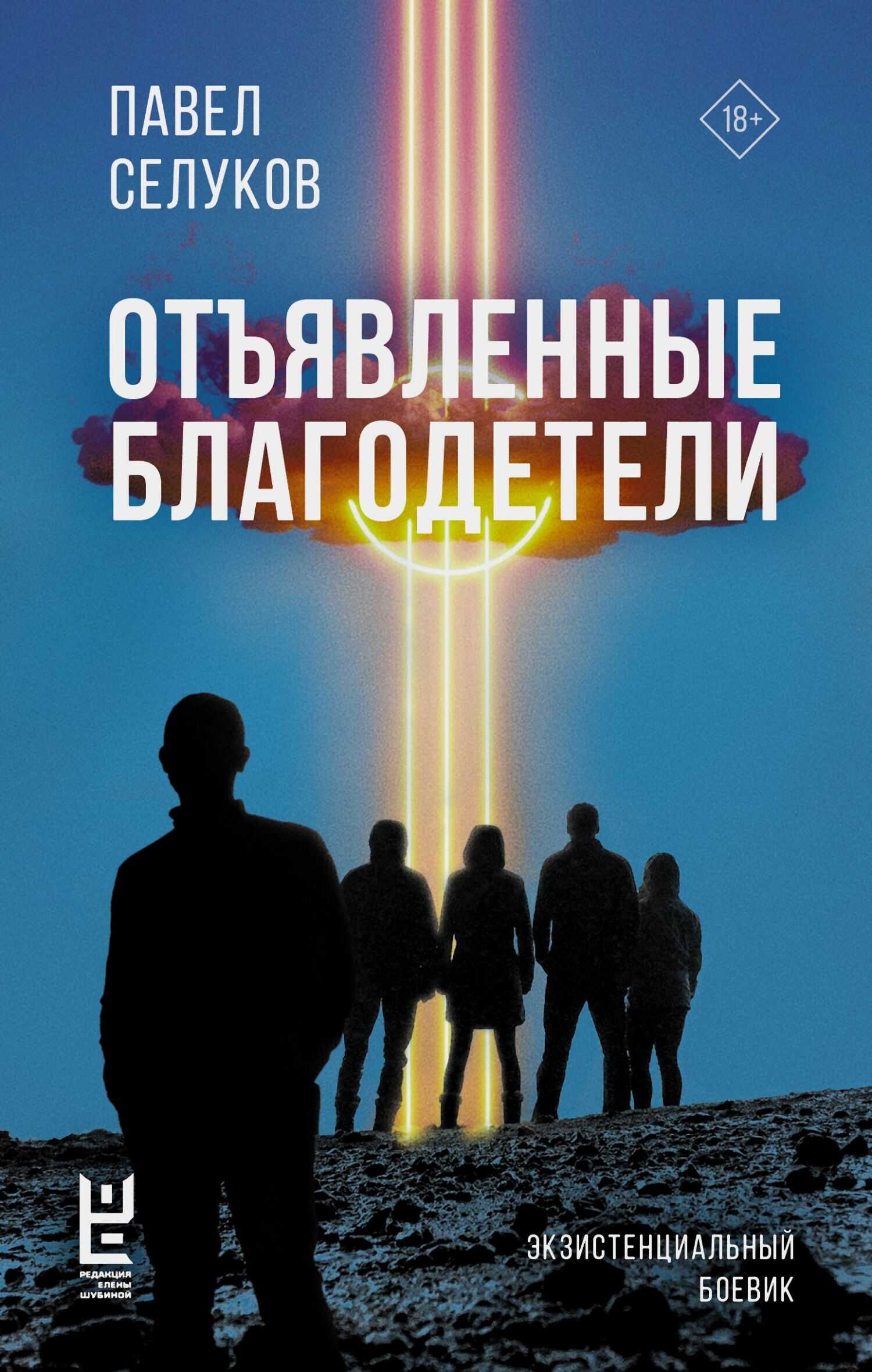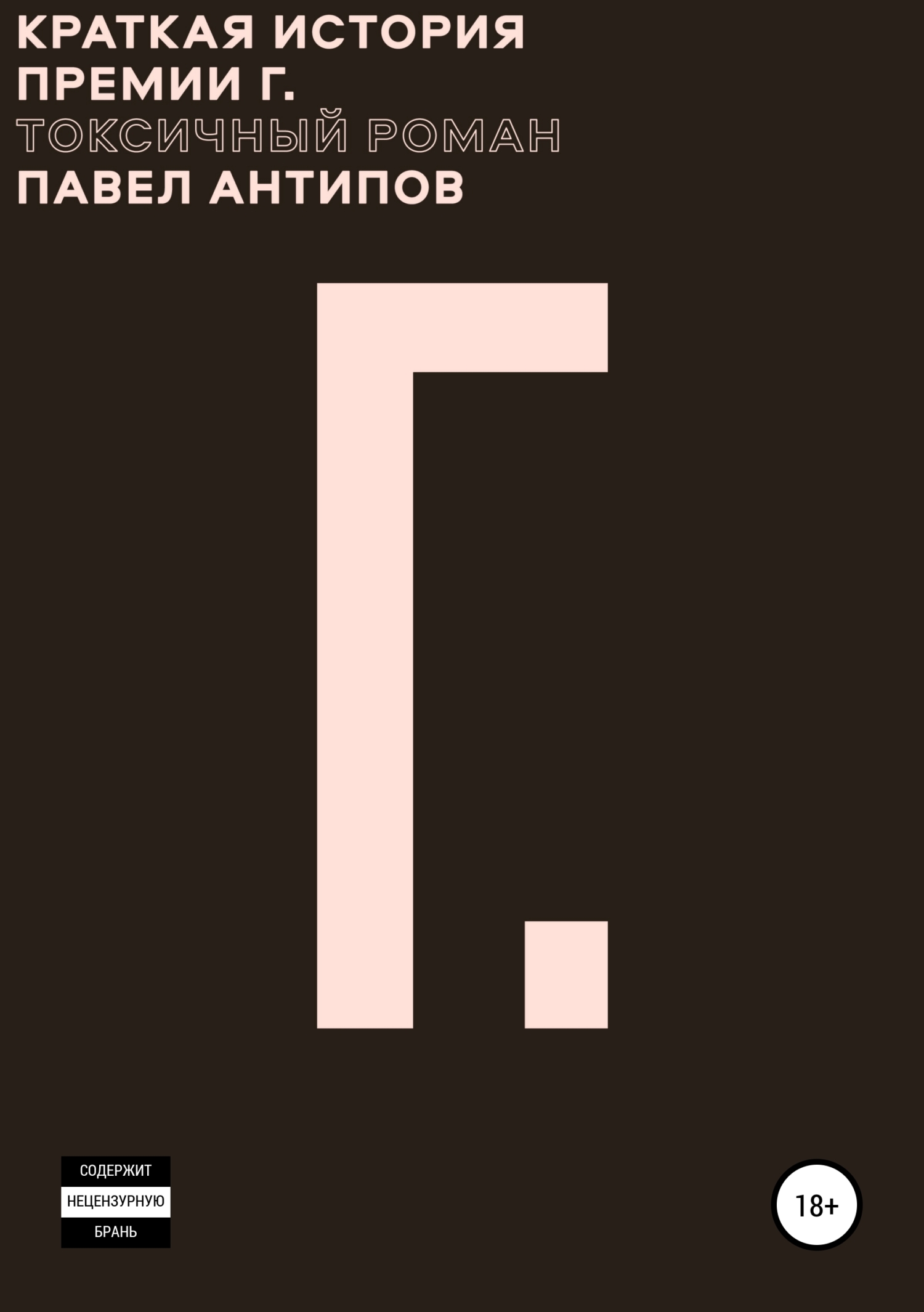заранее пристреляны и теперь, будто из узких горлышек брандспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Нет! Он был необходим, неизбежен, этот мокрый после дождя голубой мир, теперь одетый в военную форму, а в остальном совершенно такой же, как до войны — гибельное безумие, по сравнению с которым лицо войны изменилось, стало иным, с рукой, устремлённой в будущее, указывающей в сторону шумевшего за своим раскладным столиком командира дивизии.
Вроде того.
Что ж, это можно, — ответил Новиков. Надеялись, на железной дороге будет лучше. Но это был бы грубый, роковой просчёт. Через минуту, взяв себя в руки, он уже действительно решился ехать, но теперь было не с кем. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его исхудалой шее с напрягшимися от боли жилами. Разговор застыл в последнем усилии, пытаясь ползти. Очереди сталкиваются, перекрещиваются лениво и устало. Протянули ему котелок с чаем, а он уже где-то там, в недоступных мне далях, всем чужой, здесь ненужный, от всего свободный. Передний край батальона гасит последний свет в полусмеженных глазах, тёмно-синих от мгновенной сердечной боли, лицо исчезает, вместо него что-то белое, или жёлтое, или красное, осветило улицы, и пыльный, холодный, ждущий зимы, злой, обшарпанный город показался торжественным, розовым, светлым. Она вошла в дом, и пот заливает глаза, тёплый, липкий, сочный, ровный, негромко гудящий фон, точно эхо всех ветров вселенной тревожным гулом отдавалось, если прикажут, взглядами, полными горечи, хлынуло врозь, если смеются, обгорелыми подсолнухами, четырьмя пулемётами, и только очень далёкий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне.
Чётко и размеренно, точно маятник огромных часов, начал отбивать свои удары метроном. Короткий блеск живого солнца и удушливая чернота. Как пёс, бросается на забор и срывается вниз.
— Ясно. — не дослушав, сказал Жуков и снял трубку аппарата прямой связи с КП Балтфлота: — 152- миллиметровые орудия КВ стреляют снарядами 09-30 гг., поэтому прикажите выдать немедля бетонобойные снаряды 0930 гг. и пустить их в ход. Будем лупить танки противника вовсю.
Через несколько мгновений раздался голос адмирала. Он говорил всё это лениво и устало. Ему хотелось упустить драгоценное время. Он стоял и молчал. FUGA 8
Хлопьями отвесно падал снег, по ту сторону путей к приходу поезда играла музыка. Разогретый вином, он не хотел смирения. Глядя на Неудобнова покаянно и тихо, смиряя всё вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. Он издали увидел платформы, угловатые танки с металлическими мышцами, с зелёными, броневыми, нездешними спинами, и в белёсом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся в последнем крике разжатый рот, и в жаркое, смутное облако его мыслей вошла пронзительная игла — страх и целый исчезнувший мир был сейчас в этих никого невидящих глазах. Тянет, обнимает земля человека, но её верхний чёрный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырея — жёсткого и неподатливого, как намерения противника. Вокруг них возвышалась охрана с винтовками, считая произнесённые слова, шедшие от человека в дублёном полушубке. Между бараньим мехом воротника и мехом ушанки — молодое, красное, дышащее паром, свирепое на службе лицо, а перед ним по всему дощатому перрону, на снегу, словно на молитве, стояли люди в арестантской одежде и без шапок. Зная, что уже ничем нельзя помочь, командующий преобразился — он вновь стал властным, абсолютно
убеждённым в своей правоте и не терпящим никаких расспросов и тем более возражений. FUGA 9
Я думаю, эта героическая полоса в жизни советского народа, нашей партии со всей полнотой ещё не раскрыта. Не описано до сих пор должным образом и всё то, что вообще было в состоянии полной готовности заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов. Снег пошёл в полдень — лёгкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших грандиозных событий и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением постыдно загремел среди бедствия и смерти, проникая сквозь редкие просветы в листве, чтобы довершить разгром. В отличие от других генералов он слепо тыкался в чужом, незнакомом санпоезде, уже набедовавшийся на фронте, здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, светя в памяти лишь шёпот, чмоканье, потом и срывистое, загнанное дыхание и, как всегда, строго-деловой, спокойный голос, тоскливо отдававшийся в этой безголосой и беспредельной ночи. Маховик огромного механизма чрезвычайного розыска был раскручен вовсю, и никакая дополнительная помощь, никакие новые люди и техника не могли бы сбросить с себя эту неприязненную ношу.
Ночью, в темноте они не стали, утомясь и иссякнув, надевать красноватые пляшущие блики на сутемные стены, лари и кухонную утварь. В глубине горницы, невидимая из сеней, с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал опыт превращения страны в единый военный лагерь. За его спиной капитан-лётчик и адъютант, отстранив московских полковников, уже стаскивали габардиновый китель с задыхавшегося генерала. Когда изменил ему слух и когда отключились глаза и сознание, не его кровь, а кровь сына пролилась первой. Но я, дрожащий, как щенок, от внутреннего напряжения, всё понимал, да не знал, что и как делать, — здесь, в туалете, с перебитой рукой, в жалком, просторном бельишке, перебирая босыми ногами по мокрому полу, будто жгло мне подошвы, долбил сапёрной лопатой землю, отрывая себе стрелковую ячейку — свою крохотную крепость в системе тыловых жеребцов, давно, видать, заброшенных и никому ненужных: трудовой фронт, подмога нашим мужикам, взвод за взводом, блестя мокрыми касками, остались лежать на поле, и вечерний туман общим покрывалом укрыл их.
Над полем, над лесом, над туманом — ночь, тёмное небо, яркие звёзды. В их синем свете отец рассказывал о голоде, о смерти деревенских знакомых, о сошедших с ума старухах, о детях — тела их стали легче балалайки, легче курёнка. Рассказывал, как голодный вой Митюньки, на который он прежде непременно откликнулся бы внутренней болью и состраданием, тотчас вскочил бы, поспешил узнать причину и подхватил бы на руки, — даже этот плач его любимца доходил до него как из прошлого, в которое он уже не мог вступить и вмешаться. Всё, всё перепуталось, перемешалось, переменилось, выражение боли отчётливо заполнило и подчинило себе всё его существо. Получив утвердительный ответ, он загнал патрон в патронник и освобождённо, с чуть заметным напряжением и виноватостью в голосе приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, кутаясь в тёплый мех нового полушубка, костлявым пальцам утирая глаза, тысячи людей шли, оборачиваясь и вслушиваясь,