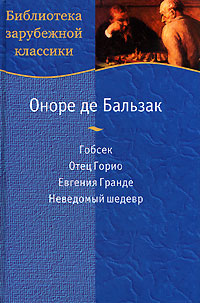и улыбался), матерью — женщиной внешне как бы хронически усталой, а по темпераменту непоседливой и работящей (она выглядела слабой, когда отдыхала, и сильной, когда трудилась), а также пожилой, но энергичной бабушкой очень жизнерадостного нрава (коя в моменты особой веселости напоминала собой задорного ребенка); была у них еще собака — крупная и лохматая, которая, как-то застав меня в роще, издала угрожающий рык при агрессивной стойке, но я, не растерявшись, уверенно наказал ей «сидеть», а затем «дать лапу», с чего и началась наша секретная дружба, — Мишка (так звала пса Наяда) время от времени навещал меня, а я, тому обрадованный, хорошенько его гладил, хвостом виляющего, и играючи притом расспрашивал, ему в отзывчиво-умные глаза всматриваясь: как там поживает его юная хозяйка? — мимолетная улыбка блеснула на устах Себастиана. — Эта семья вела скромный, весьма однообразный образ жизни, вместе столь схожий и столь разнящийся с тем, который присущ был моей семье. Хозяйство их, насколько я мог судить, содержалось так, чтобы удовлетворять собственным потребностям да не утруждать излишними хлопотами. Отец и мать проявляли нескрываемую отрешенность в отношении друг друга; казалось, оставив все надежды и обольщения, они равнодушно сосуществовали ради дочери, в которой видели единственное достойное оправдание несчастливого брака — единственное его утешение. Тем не менее, из своих наблюдений я заключил, что, отвечая взаимностью на родительское обожание главным образом из почтения и сочувствия — атрибутов любви пассивной, девушка обнаруживала искреннюю привязанность только к бабушке. И сколь дивно было наблюдать причудливый ассонанс их взаимоотношений, при которых цветущая юность и увядающая зрелость держались сестринской добродушно-веселой манеры: они помногу разговаривали, перешучивались и смеялись, посиживая на веранде — то в расслабленной праздности, то занимаясь какой-нибудь ручной монотонной работой, коя, как известно, служит ладным фоном досужих бесед; вдвоем они часто прогуливались вдоль озера, и, случалось, златовласая девушка, раздразнив свою поседелую подругу, пускалась от нее наутек с заливистым, что птичья трель, смехом, а та, вытянув вперед руки, нерасторопно гналась за нею буквально несколько шагов, после чего принималась потешно отмахиваться, как бы признавая свое поражение и провозглашая помилование легконогой наперснице. Умиленно глядя на них, я неизбежно вспоминал своих покинутых отцов и испивал горчайший глоток сожаления, примешанный в полную чашу радости; мое сердце стыло от сознания разраставшейся между нами отстраненности, что хладным, тлетворным туманом осела на поля, где дотоле при ясной лучезарности спели колосья благоденствия. Но, многократно оглядываясь назад, я все же не мог повернуть вспять, не осмеливался покинуть оазис аморфных иллюзий ради верной действительности, опрометчиво мною отринутой. Я словно бы отведал того мифического лотоса132, от сладчайшего вкуса которого все забываешь и желанье утрачиваешь домой возвратиться…
Не стану долее задерживаться на семье Наяды; скажу только еще несколько надлежащих слов о ней самой и моих к ней чувствах… Не берусь судить, была ли Наяда красива относительно господствующих эталонов, но для меня она была самая прекрасная девушка на свете, — ведь для меня она была единственная девушка на свете… «Истинно, вечным богиням она красотою подобна»… Вообразите, какое откровение я восприял, узрев, прочувствовав, осознав ее впервые. Своих мать и няню я почти не помнил, других же обитательниц и гостий фамильного особняка позабыл подавно, а посему понятие «женщина» брезжило в моем сознании неким смутным фантазмом, невосполнимой лакуной значась. И при чтении произведений с романтическими линиями мне никогда не удавалось уразуметь того всепокоряющего упоения женственностью, кое испытывали мужские персонажи, кое возносило их в гении и повергало в безумие. Любовь между мужчиной и женщиной являлась для меня, безусловно, самой неразрешимой и самой волнующей загадкой из всех несметных энигм бытия. Ибо за минувшие годы сознательной жизни я питал осмысленную любовь-уважение к своим отцам — Лаэсию и Эвангелу, а равно доктору Альтиату, но внерациональная любовь-влечение к человеку иного пола оставалась для меня неисповедимой.
И вдруг я увидел Ее — поющую у синего озера Наяду — во мгновение постигнув все то, что поныне непостижимым представлялось, — ибо сие озаряется исключительно чувству. И я почувствовал, как витальное пламя любви объяло мою душу, опалило ее страстью и само же теплом нежности залечило ожоги… Я полюбил, думал я, вовсе не ведая разницы между любовью и влюбленностью, как обычно не ведают оной (и не желают ведать) литературные герои. Я окружил земное божество своих грез небесным почитанием и созерцал сию святыню — извечно столь близкую и столь неприкосновенную — глазами благочестивого фламина133, преклоняясь пред нею с самозабвенной верой и трепетным благоговением. Завороженно наблюдал я за Наядой, во всем усматривая признаки ее духовного совершенства (сообразного совершенству наружному), отыскивая сокровенный смысл в любой перемене ее поведения и испытывая непреложное ощущение сугубой значимости того фантастического влияния, какое возымела она над моею судьбой. Видя, что Наяда читает книгу, я мечтал узнать название сего сочинения, дабы оно стало для меня сакральным кодексом; слыша, как она поет, я чаял уловить и запомнить слова, дабы они сделались моей мантрой, — но волшебный голос, околдовывая и пленяя, — словно песнь сирены, что вещает великие тайны мироздания, с ума сводящие, — лишал меня способности мыслить, будто каждая строка, минуя сознание, вливалась прямиком в душу, притоком счастья в ней растворяясь…
Таким образом, промелькнуло порядка десяти дней, и за этот краткий срок, сновидению подобный, — я, моя жизнь — все переменилось до того стремительно, существенно и необратимо, что, мерещилось мне, истекло целое десятилетие. И тем явственнее было это впечатление, когда я смотрел на своих отцов: они имели вид непривычно утомленный и подавленный, точно б в самом деле состарились на декаду. Я жалел их всем сердцем, но сердце мое, не в мочи сменить курс, сродни фрегату, притягиваемому магнитной горой (что громоздится, по легенде, где-то на севере средь океана), сердце мое обреченно неслось к своему крушению…
Когда в очередной раз нетерпеливой поступью шествовал я через лес по направлению к заповедной долине, свысока до меня донесся предостерегающий рокот; тревожно, словно исполнившись дрожи, зашумела древесная листва; ветер взволновал траву, рябившую под его призрачным наплывом; помалу стал сползаться сумрак; и вскоре я почувствовал, как прохладная капля обжигающе пала на мою правую кисть. Мне бы следовало, руководствуясь рассудком, воротиться назад, но я, ему вопреки, отчаянно помчался дальше, — так обезвоженный в пустыне тщится нагнать ускользающий мираж. Достигнув опушки, я в ужасе узрел, как буря, раскинув дожденосные крылья, с треском и грохотом гнала над равниной черные скопления туч, заслонявшие собою лик солнца померкший. Я стоял в опустошенном смятении, задыхаясь в волнах мятущегося