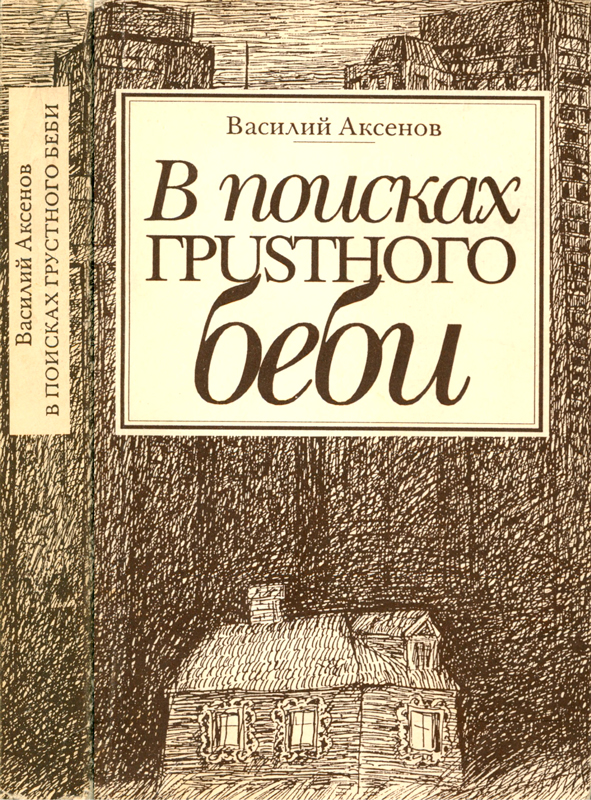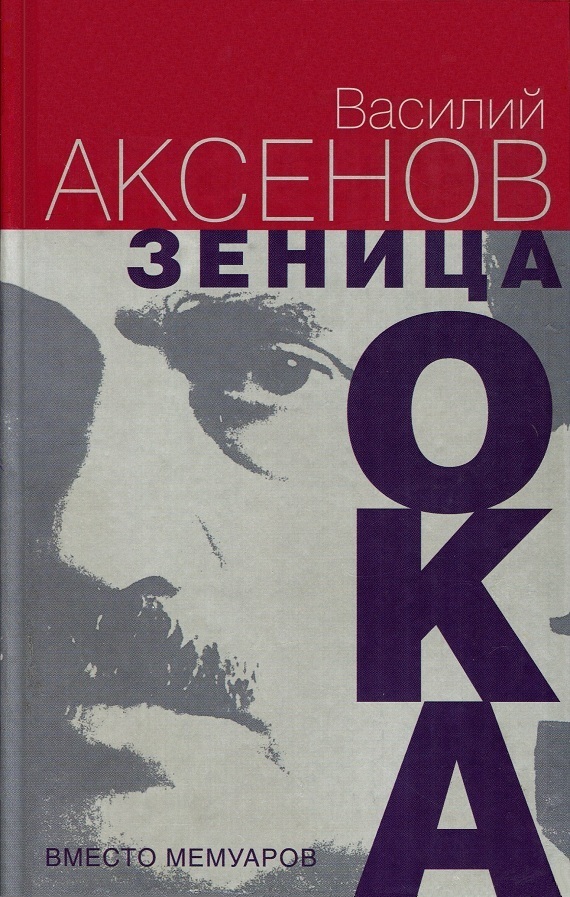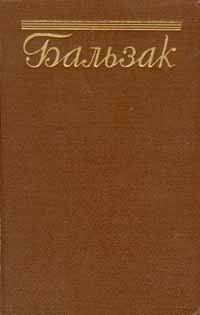прошел мимо. Он даже и не взглянул, откуда пришло приветствие. Савва проводил его взглядом:
— Он уже не с нами. Жизнь кончилась, ждет ареста. Говорят, что уже упаковал узелок и ждет.
Нина в отчаянии уронила руки:
— Ну почему же он просто ждет, Савка? Почему даже не старается убежать? Ведь это же инстинкт — убегать от опасности! Почему он не уезжает, уехал бы на Юг, в конце концов, хоть бы насладился Югом напоследок! Почему они все, как парализованные, после этих исключений, проработок?
— Прости, Нинка, милая, но почему ты сегодня аплодировала гнусному Гусеву? — спросил Савва и обнял ее за плечи.
— Я просто от страха, — прошептала она.
— Нет, не только от страха, — возразил он. — Тут еще что-то есть, важнее страха…
— Массовый гипноз, ты хочешь сказать? — пробормотала она.
— Вот именно, — кивнул он. — И вы все создали этот гипноз!
— А ты? — бросила она на него быстрый взгляд. Почувствовала, как у него напряглись мускулы на руке. Голос стал жестче.
— Я никогда не участвовал в этом грязном маскараде.
— Что ты имеешь в виду? — Лицо ее приблизилось вплотную к его лицу. Издали они были похожи на шепчущих телячьи нежности влюбленных. — Ты имеешь в виду все в целом? Революцию, да?
— Да, — сказал он.
— Молчи! — быстро прошептала она и закрыла мужу рот ладонью. Он поцеловал ее ладонь.
Глава XV
Несокрушимая и легендарная
В те годы возник жанр могучего советского пения. Певцы и хоры научились как бы едва ли не разрываться от величия и энтузиазма. Массовая радиофикация несла эти голоса на черных тарелках радиоточек глубоко в недра страны.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь привольно и широко,
Словно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога!
Старикам везде у нас почет!
Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!
Так шло через все одиннадцать часовых зон, так и на Дальнем Востоке гремело, так и возле железнодорожного шлагбаума неслось из репродуктора на столбе возле небольшой станции в Приамурье.
Была непогода, бесконечно струился неторопливый дождь, в лужах плавали пузыри, не предвещая на ближайшее время ничего хорошего… «Все сегодня наденут пальто, И заденут за поросли капель, И из них не заметит никто, Что опять я ненастьями запил», — бормотал Никита стихи своего любимого полузапрещенного поэта… И только за огромной рекой, то есть уже в китайских далях, чуть-чуть намечались в облачной массе какие-то слабые намеки на то, что лето еще возьмет свое.
Легковая «эмка» комкора Градова остановилась прямо перед закрытым семафором. Моргал красный фонарь. Через пересечение проселочной дороги по одной из веток железнодорожной магистрали медленно, как сегодняшний дождь, проходил бесконечный товарный состав. Никита не отрываясь смотрел на мрачную, клацающую на стыках рельсов процессию. Как и все вокруг, он знал, какого рода груз перевозится в этих составах: человеческий груз, заключенных везут к Владивостоку и Ванинскому порту для отправки на Колыму. И для водителя комкора, сержанта Васькова, это тоже, очевидно, не было секретом. Он все вздыхал и вздыхал, глядя на поезд, явно хотел поговорить.
— Ну в чем дело, Васьков? Чего развздыхался? — мрачно спросил Никита.
— Да как-то мне раньше в голову не приходило, товарищ комкор, что у нас в стране столько врагов народа попряталось, — пробормотал шофер, не глядя на начальника. Простоватое лицо его отражало недюжинную народную хитрость.
— Оставь эту тему, Васьков, — сказал Никита. — Просто держи язык за зубами. Понятно?
Сержант шмыгнул носом, проглотил свое «есть, товарищ комкор». В бесконечных разъездах по военному округу он привык к несколько запанибратским отношениям с заместителем командующего по оперативным вопросам, а сейчас вот его вдруг так резко оборвали, хотя, казалось бы, как не поговорить перед закрытым семафором.
По всему составу простучали буфера, и поезд полностью остановился. Какие-то люди пробежали в голову состава, кое-где чуть откатывались двери вагонов, высовывалась вохра, слышались вдалеке какие-то крики; что-то происходило.
Между тем за градовской «эмкой» накопилось уже изрядно колхозных подвод и военных машин, возвращающихся из зоны танковых учений.
— Вон, сам едет, — мрачно сказал Васьков и показал пальцем в боковое обратное зеркальце. Никита оглянулся и увидел известный всему округу броневик главкома Блюхера в камуфляжной раскраске.
Никита вышел из «эмки». Маршал уже приближался своим обычным, более чем уверенным в себе, как бы атакующим шагом. Они обменялись рукопожатием.
— Что тут происходит, Никита Борисович?
— Да вот спецсостав проходит, Василий Константинович.
Блюхер мрачно ухмыльнулся:
— Спецсостав…
Отмахнув полу кожаного пальто, полез за портсигаром, предложил папиросу Градову. За все эти годы обмен папиросами был единственным знаком неформальности между ними. Они не перешли на «ты», обращались друг к другу по имени-отчеству, сохраняли именно ту дистанцию, что и предполагалась между ними по всем правилам как писаного, так и неписаного кода армейских нравов. В последние месяцы появилось еще большее отчуждение. Ни с кем, даже с Вероникой, Никита не делился своим раздражением в адрес Блюхера, даже и самому себе он не очень-то признавался, что не доверяет больше своему главкому. В мае энкавэдисты нагло, на глазах у всего штаба, увели одного из самых уважаемых командиров Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, начальника авиации комкора Альберта Лапина. Блюхер и пальцем не шевельнул для его спасения. Аресты шли по всем звеньям, затем разразилось потрясшее всю РККА дело о «военно-фашистском заговоре», мгновенно и бесповоротно заляпаны были грязью несколько икон революции — Тухачевский, Уборевич, Якир, Гамарник, Эйдеман… Еще большим потрясением стало то, что в составе суда, отправившего на смерть этих людей, оказались Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин… Это же все равно, как если бы я судил Кирилла и Нинку, думал Никита. Тело его в эти минуты наливалось свинцом, перед глазами вставала заляпанная кровью стена кронштадтского форта…
В спецсоставе происходило что-то необычное. Блюхер и Градов стояли в каких-нибудь двадцати метрах от одного из остановившихся вагонов. Слышны были звуки какой-то тяжкой возни, глухая перебивка множества голосов. Вдруг леденящий вопль вырвался из этой каши:
— Товарищи! Красные командиры! Не верьте фальшивым обвинениям! Мы не враги! Мы — коммунисты! Мы верны делу Ленина — Сталина!
После этого выкрика зазвучал непостижимый мычащий хор мужских голосов. Вскоре все собравшиеся у переезда военные и крестьяне смогли и в этом диком исполнении различить гимн ВКП(б), французскую песню «Интернационал». Отодвинулась одна из досок в верхней части стенки вагона,