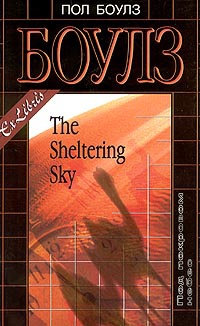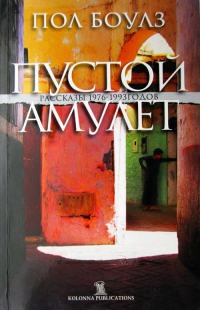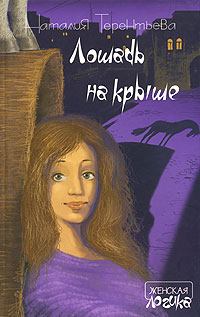— Французы убили медждуба? — недоверчиво переспросил он. — Этого не может быть. Тут какая-то ошибка.
Нет, нет, настаивала Райсса. Все точно. Многие люди это видели собственными глазами. Он, как обычно, призывал проклятия на головы французов, крича «Ed dem! Ed dem! Мусульмане должны пролить кровь!», и тут двое полицейских, ехавших в Неджарин, остановились и стали смотреть на него. Увидев их, он сразу же признал посланников Сатаны и возопил, обращаясь к Аллаху, чтобы он истребил весь их род, и тогда полицейские, посоветовавшись друг с другом, подошли к нему и ударили его об стену. Тогда он бросился на них и стал бить их и царапаться, а они достали свои пистолеты, и каждый в него выстрелил. И медждуб (да благословит его Аллах!) упал, стеная от боли, но не переставая кричать «Ed dem!», и умер прямо на глазах у всех, а тут понаехали еще полицейские и увезли тело, а народ разогнали, заставляя их идти дальше по своим делам, как будто ничего не произошло. И это был ужасный, ужасный грех, который Аллах никогда не простит в сердце Своем, и теперь долг каждого мусульманина, хочет он того или нет, — отомстить. Проклятый день, bismill'lah rahman ег rahim.
— И что станется теперь со мной и моим мужем, которые работают в гостинице на назареев? Мусульмане — люди злые. Они могут и убить нас, раз мы всё знали, — закончила она плаксиво.
Когда мусульманин говорил с христианином о своих единоверцах, почти неизбежно в его словах проскальзывала эта двусмысленность. Какое-то время это были «мы», которое неожиданно менялось на «они», и в этом «они» звучало нечто вроде горькой критики и осуждения.
— Нет, нет, нет, — сказал Стенхэм. — Они могут убить меня, потому что я назарей, но зачем им убивать тебя? Ты — добрая мусульманка и просто зарабатываешь себе на хлеб.
Но Райссу его слова не утешили. Она помнила слишком много добрых мусульман, которые зарабатывали себе на хлеб, прислуживая назареям, и которых забивали до смерти, не давая им даже защитить себя; то, что эти мусульмане могли сотрудничать с полицией, не приходило ей в голову.
— Aym ah! — горестно простонала она. — Плохой, плохой день!
Отделавшись от нее, Стенхэм подошел к окну и прислушался. День был как день, дремотные звуки поднимались над мединой: далекое гудение лесопилки, крики ослов, отрывки египетских песен, вырывавшиеся то тут, то там из радиоприемников, детская разноголосица. В саду, как ни в чем не бывало, чирикали воробьи. Стенхэм сел за работу, понял, что писать не сможет и недобрым словом помянул Райссу. Потом полежал на солнце, надеясь, что удастся расслабиться и возобновить прерванный поток мыслей. Но в последнюю неделю-полторы было слишком жарко, чтобы принимать солнечные ванны, и сегодняшний день не был исключением. Пот лил с него ручьями, даже обивка кресел была влажной. Оставалось только усесться за машинку, стоявшую на столе посреди комнаты, и отпечатать несколько писем, но взгляд его то и дело отрывался от написанного и бездумно скользил по панораме холмов и стен. Прошло около часа, пока Стенхэм не осознал, что большую часть времени наблюдает за городом. Он поспешил занести свое открытие в письмо, как человек, чувствующий, что дело у него из-за рассредоточенности продвигается с перебоями, а потому считающий необходимым принести извинения адресату «Это самое проклятое место на свете для того, кому необходимо сосредоточиться. На первый взгляд, оно кажется тихим и спокойным, но только на первый. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я постоянно отрываюсь и гляжу в окно. И дело не в том, что я любуюсь видом, потому что даже не замечаю его. Каждую мелочь я могу вообразить с закрытыми глазами. Надеюсь, вы представляете, насколько хуже обстоит дело, когда я пытаюсь работать…»
Стенхэм снова остановился и перечитал написанное. Абсурд, да и только: куда лучше было бы, если бы он постарался понять, чем именно притягивает его взгляд медина. Почему мысли его заняты этим лежащим за окном обширным пространством, сияющим в лучах утреннего солнца? Он знал, что это средневековый город, знал, что любит его, но это не имело никакого отношения к тому, что происходило где-то в глубинах его сознания, пока он сидел, глядя в окно. На самом деле Стенхэм чувствовал, что города нет, поскольку однажды, рано или поздно (и, похоже, что рано), он исчезнет. Так было у него со всеми вещами, со всеми людьми. Грубо говоря, город был просто символом — это было ясно. Символом всего, что было обречено на перемены или, выражаясь точнее, на уничтожение. И, хотя это была не слишком-то утешительная точка зрения, Стенхэм не отвергал ее, поскольку она совпадала с тем, во что он твердо верил: человек должен любой ценой перенести какую-то часть самого себя за пределы жизни. Если он хотя бы на мгновение перестанет сомневаться, примет за безоговорочную истину все, о чем говорят ему чувства, он утратит твердую почву под ногами и будет унесен потоком, лишившись всякого представления о реальности, полностью поглощенный хаосом бытия. Его мучило подозрение, что в один прекрасный день он обнаружит, что все время заблуждался, однако пока у него не было иного выбора, кроме как оставаться таким, как есть. Человек не может по своей прихоти менять то, во что верит.
Закончив четыре письма, Стенхэм побрился, оделся и вышел во внутренний дворик. Там никого не было; даже верзила-горец, huissier стороживший машины, куда-то исчез; быть может, потому что сторожить сейчас было нечего. За воротами шла своим чередом уличная жизнь. Владелец антикварной лавки, обслуживавшей исключительно постояльцев гостиницы, низко поклонился, завидев Стенхэма. В первые три-четыре года он упорно верил в то, что этого туриста можно уговорить приобрести хоть что-нибудь; он льстиво зазывал его в лавку, угощал чаем, предлагал сигареты или трубку кифа. Все это Стенхэм принимал, предупреждая, однако, что находится здесь исключительно как друг, а не как клиент. Это не мешало владельцу лавки хлопотливо расстилать на полу берберские ковры, звать сыновей, чтобы они, как манекены, демонстрировали джентльмену-назарею старинные расшитые кафтаны, отпирать кованые сундуки, выложенные пурпурным и фуксиново-красным бархатом, где хранились кинжалы, сабли, роговые пороховницы, табакерки, стремена и пряжки, а также сотни прочих никчемных предметов, ни один из которых Стенхэма абсолютно не интересовал.
Теперь, по прошествии времени, старик начал испытывать род изумления перед этим загадочным иностранцем, который выдержал такую длительную осаду, но так и не сдался; оба держались друг с другом предельно учтиво. Однако Стенхэму не нравился елейный тон старика, к тому же он знал, что тот состоит осведомителем французской полиции. Само собой разумеется, это было практически неизбежно и вины старика в том не было. Всякий местный житель, регулярно общавшийся с туристами, был вынужден представлять в полицию отчеты об их занятиях и разговорах (хотя трудно было понять, какую важность может иметь эта поверхностная информация для тех, кто вел досье в Двенадцатом отделе). Несколько раз владелец пытался завязать со Стенхэмом разговоры, которые, если довести их до логического завершения, должны были так или иначе затронуть политические темы, однако Стенхэм, вполне по-мароккански, умело переводил их в другое русло, заставляя беседу словно повиснуть в воздухе, зацепившись за крючки Moulana и Mektoub[100], с которых ее уже нельзя было снять, не нарушая приличий.