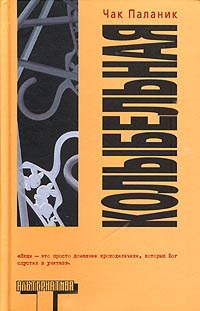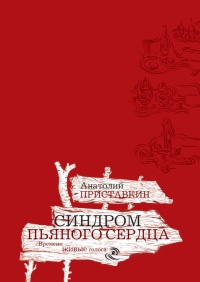— Все в порядке, ребята, — говорит Грэм. — Я встретил Оливера около своего дома.
— Оливер! И ты пьян! — пьяно визжит отец, что, по-моему, несколько лицемерно.
Мама выпрямляется. Она накрашена. Ее волосы безупречны.
— Ты привез его из Порт-Эйнона? — спрашивает она Грэма.
— Послушай… послушайте, Оливер в порядке. Я в порядке. Вот его вещи.
— Оливер, это неприемлемо, — выпаливает папа. У него сердитый голос, но он как будто читает по бумажке. — Грэм вез тебя в такую даль.
— Ничего, — успокаивает его Грэм. Он все еще стоит позади меня.
Я чувствую сквозняк от входной двери.
— Я сделаю кофе, — заявляет папа, будто это имеет какое-то значение.
— Я вломился к нему, — встреваю я.
— Что? — Папа встает. Какого же он маленького роста, оказывается.
— И выпил его бренди двадцатилетней выдержки, — продолжаю я.
— Грэм… он что-нибудь натворил? — спрашивает мама.
— Все в порядке, — устало повторяет Грэм.
— Я разбил его хипповскую скульптуру. И окно. И продырявил грелку, которая, кстати, имеет форму сердца.
Я поворачиваюсь к Грэму лицом. Он стоит в дверном проеме, облокотившись на ковбойский манер, в одной руке держит мой рюкзак, похожий на оторванную голову. Его рот слегка приоткрыт. Он действительно выглядит усталым. На нем черная спортивная кофта, синие джинсы и ботинки. У ботинок дюймовые каблуки.
— Придется тебе купить новую грелку, — выдаю я.
— Оливер, о чем ты только думал? — возмущается папа.
Такое впечатление, что у него заготовлен целый список фраз, которые следует говорить в подобной ситуации.
— Ничего страшного, — повторяет Грэм и протягивает мне рюкзак. — Вот, Оливер, твои вещи.
— Я сделаю кофе, — снова бормочет папа. — Чайник вскипел.
Я беру рюкзак.
— Я смотрел твои альбомы, — сообщаю я Грэму.
— А вот и кофе, — говорит папа.
— Спасибо, я не хочу, — отвечает Грэм. — Послушайте, я пойду… — Он показывает пальцем через плечо.
— Кажется, я понял, — отзывается папа.
— Ллойд, — вмешивается мама, — Грэм просто хочет положить этому конец.
Никто не шутит над ее словами.
— Я нашел вашу с мамой фотографию, — продолжаю я, обращаясь к Грэму.
— Ну ладно, значит, кофе, — я слышу, как папа почти бегом скачет на кухню, точно дело сверхсрочное.
— Фотографию семьдесят шестого года, — уточняю я.
Грэм не смотрит на меня. Он смотрит мимо, на маму.
— Послушай, мне пора, — спешит убраться он.
— Да, — кивает мама.
— Оливер в порядке.
— Я знаю.
Это похоже на родительское собрание. Папа кричит с кухни:
— Я рад, что мы можем поговорить об этом!
Мы с Грэмом снова играем в гляделки. Это напоминает свидание.
— До свидания, Оливер, — произносит он довольно официально.
— Никогда, никогда больше не приходи, — отвечаю я.
Он моргает, и, кажется, мы достигаем взаимопонимания. Грэм уходит, аккуратно прикрывая за собой дверь. Чувствую вкус кислоты во рту. Поворачиваюсь к маме — та все еще сидит на нижней ступеньке и держит бокал с вином. Она смотрит на меня.
— У тебя были вот такие волосы, — говорю я и показываю на центр груди. Она улыбается.
Папа медленно идет из кухни, неся в руках поднос. Он очень сосредоточен: опустил голову и внимательно следит за тремя чашками. Ноги шаркают по полу. Каждый шаг — четкое движение. Он думает, что, если прольет кофе, его браку придет конец.
— Придется пить растворимый, — говорит он и торжествующе поднимает голову. Моргает. Смотрит налево и направо. Он — полноправный хозяин в доме.
Я чувствую рвотный позыв. Наклоняюсь, согнув руку, и ярко-красная струя взмывает вверх по пищеводу и бьет изо рта на линолеум.
31.8.97
Слово дня: небытие — состояние пребывания в нигде.
Прощай, дорогой дневник, прощай!
Менструальный колпачок — это пластиковое приспособление в форме соска. Его можно купить только с доставкой по почте из Калифорнии. Женщина помещает колпачок во влагалище для сбора менструальных выделений. Когда он наполняется, содержимое выливается. Мама использует его вместо тампонов; она показала мне. Не было никакого ребенка.
Родители помогли мне проблеваться в туалете — я ревел, как лев. После было очень хорошо, как будто я достиг чего-то. Они уложили меня в кровать, раздели; при этом у меня не возникло эрекции. Потом они сели на край и стали говорить.
Папа сообщил, что мама рассказала ему о том, как «отвинтила Грэму крантик» в Ллангенните — при этом он сделал характерный жест рукой туда-сюда — и что он ее простил. Он улыбался и смотрел на маму; его лицо было цвета красного вина.
Во время разговора он гладил мою ногу сквозь одеяло. Мне показалось, это уж слишком. Было видно, что папа в шоке. То, что он использовал выражение «отвинтить крантик», свидетельствует о впадании в детство.
Мама сказала:
— Прости меня, мой маленький плюшевый мишка! — И обняла меня через одеяло. Я сразу вспомнил Грэма. Потом она стала петь: — Мальчик мой, мой малыш.
Я спросил папу:
— Неужели ты не сердишься?
А он ответил, что есть в жизни вещи и похуже. И тогда, словно в доказательство его слов, меня вырвало в пятый раз за вечер. Маленькая лужица из пузырьков и ниточек слюны образовалась на подушке.
Я признался, что Джордана меня бросила. Мама поцеловала меня в шею, в ухо, в висок.
Они оставили ведро рядом с кроватью.
Сначала я не мог уснуть, поэтому стал думать о доме Грэма и о том, что могло бы случиться, если бы не моя низкая сопротивляемость алкоголю. Газовая духовка разогретая до восьми; Грэм с луковицей вместо кляпа во рту на плиточном полу в кухне, с перевязанными бечевкой руками и ногами; я расхаживаю вокруг него кругами и произношу великолепную речь.
Она звучала бы примерно так: «С той самой минуты, как моя мать закатала рукав, я хотел сказать тебе вот что: мои родители очень ранимы. Такому, как ты, должно быть, очень просто ими управлять. Папа как-то порвал на себе майку, но сейчас уже не может вспомнить, почему. Теперь его оружие — давилка для чеснока».
Я бы натирал безволосую спину и грудь Грэма крупной морской солью и приговаривал, как повар из кулинарного шоу: «С мамой так просто: всего-то и надо, что косяк, пиво, массаж спины, — и она твоя. Она занялась капоэйрой, хотя неуклюжа, как креветка. Почему? Потому что хочет быть рядом с тобой».