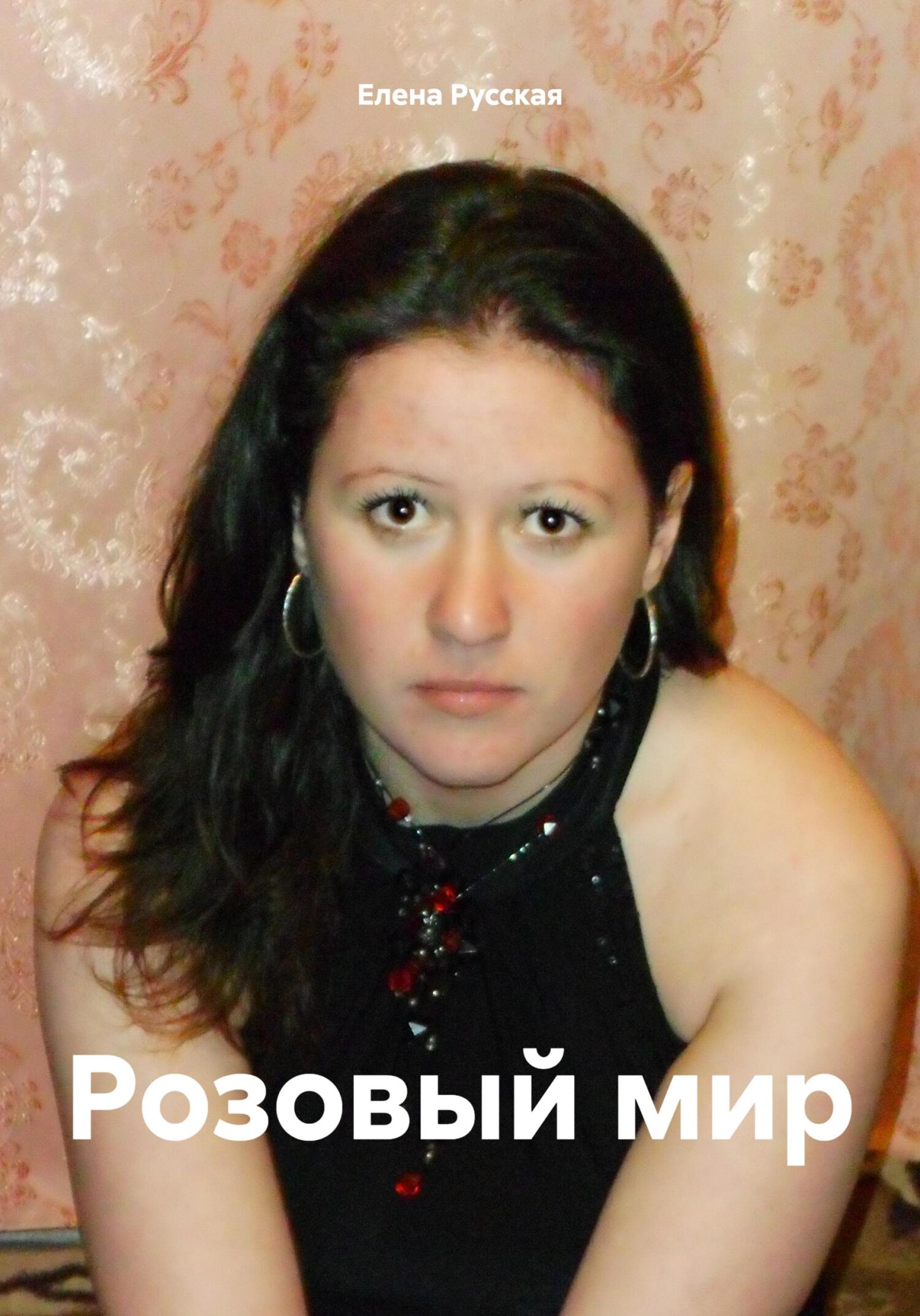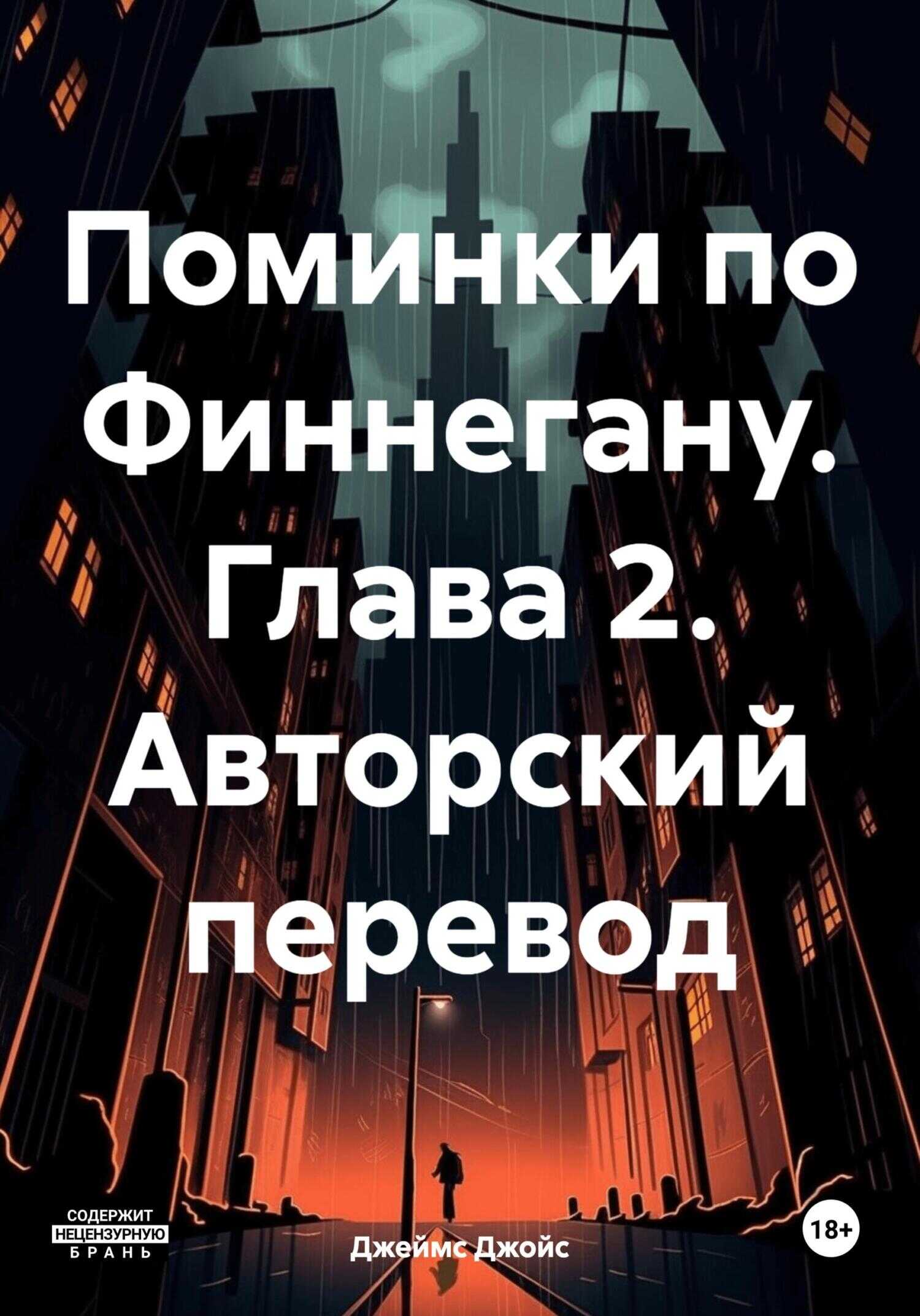по-своему, в свое время, устанавливая своего рода порядок, которого на самом деле не существовало. В последнем сообщении, которое Энн мне прислала, говорилось: «Я люблю тебя. Ты знаешь это, верно?» Потребовались все мои силы, чтобы не ответить. Я наслаждалась своей сдержанностью, болезненным удовольствием, похожим на похмелье, словно у человека, который выжил в лавине только затем, чтобы потерять конечности из-за обморожения. Эта сдержанность, этот контроль делали меня ужасной во многих вещах, зато помогали добиваться результатов на работе.
Я вернулась к эксперименту с рычагом. Я использовала как опсины, так и флуоресцентные белки, которые позволяли мне регистрировать активность мозга, видеть, какие конкретные нейроны префронтальной коры активны во время ударов тока. Флуоресцентные белки были чем-то вроде чуда. Всякий раз, когда я направляла синий свет на белок, он светился зеленым. Интенсивность этого зеленого цвета менялась в зависимости от того, активирован нейрон или нет. Я никогда не уставала от этого процесса, от его святости, от сияния и получения света взамен. Когда я впервые увидела это, то хотела призвать всех в здании собраться. В моей лаборатории, в этом святилище, было что-то божественное. «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце»[11].
Теперь я видела его столько раз, что глаза привыкли. Я не могу вернуться к тому первоначальному состоянию удивления, поэтому работаю не затем, а для того, чтобы преодолеть его.
– Эй, Гифти, не хочешь как-нибудь поужинать со мной? В смысле, было приятно поделиться «Эншуром» и все такое, но, может, на этот раз мы пообедаем?
На Хане были перчатки и защитные очки. Он смотрел на меня тепло, с надеждой, его уши слабо светились красным.
Вот бы у меня было собственное свечение, ярко-зеленое флуоресцентное мерцание под кожей на запястье, которое бы предостерегающе вспыхивало.
– Я ужасна в отношениях, – призналась я.
– Ладно, но в еде-то не так ужасна?
– Не так, – рассмеялась я, хотя немного покривила душой. Я вспомнила о званых обедах с Реймондом пятью годами ранее, об оправданиях, которые я использовала, чтобы от них увиливать, о наших ссорах.
– Ты проводишь больше времени с лабораторными мышами, чем с людьми. Ты же знаешь, что это вредно, верно? – спрашивал он.
Я не знала, как объяснить ему, что времяпрепровождение в лаборатории по-прежнему было для меня способом проводить время с людьми. Не с ними, а с мыслями о них, с ними на уровне разума, который казался мне таким же близким, как любой ужин или вечер с выпивкой. Нездоровая философия, но, если мыслить абстрактно, то было стремление к здоровью, и разве это не считалось?
– Ты прячешься за своей работой. Ты не впускаешь людей. Когда я встречусь с твоей семьей?
В наших отношениях начали проявляться трещины. Одна – я плохо вела себя за ужинами. Другая – я слишком много работала. Самая большая – моя семья.
Я сказала Реймонду, что я единственный ребенок. Мне нравилось думать об этом как о длительном упущении, а не о прямой лжи. Он спросил, есть ли у меня братья и сестры, и я ответила отрицательно. Я продолжала говорить «нет» в течение нескольких месяцев, а затем, когда он стал спрашивать: «Когда я встречусь с твоей семьей?», ссориться. Я не могла придумать способ снова сказать «да».
– Мама не любит путешествовать, – говорила я.
– Хорошо. Алабама недалеко.
– Отец живет в Гане.
– Никогда там не был, – признался Реймонд. – Всегда мечтал посетить родину. Давай съездим.
Меня раздражало, когда он называл Африку «родиной». Меня раздражало, что Реймонд чувствовал близость к континенту. Это была моя родина, родина моей матери, но единственные воспоминания о ней были неприятными: жара, комары, толчея в Кеджетии тем летом, когда я думала лишь о брате, которого потеряла, и о матери, которая от меня ускользала.
Тем летом я не потеряла маму, но что-то внутри нее ушло и больше не вернулось. Я даже не сказала ей, что встречаюсь с кем-то. Наши телефонные звонки, нечастые и отрывистые, были настолько краткими, что казалось, будто мы говорим шифром. «Как дела?» – спрашивала я. «Хорошо», – говорила она, что означало: «Я жива, разве этого мало?» Было ли этого достаточно? Реймонд происходил из большой семьи из трех старших сестер, матери и отца, кучи тетушек, дядюшек и двоюродных братьев. Он разговаривал по крайней мере с одним из них каждый день. Я встречала их всех и застенчиво улыбалась, когда они хвалили мою красоту, мой интеллект, когда они говорили, что за такую, как я, надо держаться обеими руками.
– Не облажайся, – прошептала старшая сестра Реймонда достаточно громко, чтобы я услышала, когда мы однажды вечером выходили из дома его родителей.
Но Реймонд не был идиотом. Он знал, что я чего-то недоговариваю, и вначале спокойно ждал, пока я буду готова рассказать, но затем, почти шесть месяцев спустя, я почувствовала, что период отсрочки заканчивается.
– Я буду стараться изо всех сил на обедах. Я буду стараться, – пообещала я однажды ночью после очередной ссоры. Мы уже сомневались, нужно ли нам оставаться вместе.
Он вытер рукой лоб и закрыл глаза. Не мог смотреть на меня.
– Дело не в гребаных вечеринках, Гифти, – мягко сказал Реймонд. – Ты вообще хочешь быть со мной? В смысле, действительно быть со мной?
Я кивнула, подошла к нему сзади и обняла его.
– Может быть, следующим летом мы вместе поедем в Гану.
Он повернулся ко мне лицом, его глаза были полны подозрения, но также и надежды.
– Следующим летом?
– Ага. Спрошу маму, не захочет ли она присоединиться.
Если Реймонд и знал, что я лгу, то позволил мне солгать.
~
Моя мать никогда не возвращалась в Гану. Прошло более трех десятилетий с тех пор, как она уехала с малышом Нана на буксире. После ссоры с Реймондом я позвонила ей и спросила, не думала ли она когда-нибудь о возвращении. Мама откладывала деньги; она могла бы жить там более простой жизнью, не работать все время.
– Вернуться для чего? – спросила мать. – Моя жизнь здесь.
И я знала, что она имела в виду. Все, что мама построила для нас, и все, что она потеряла, хранилось в этой стране. Большинство ее воспоминаний о Нана остались в Алабаме, в нашем доме в тупике на вершине этого небольшого холма. Даже если Америка принесла ей боль, там была и радость – отметины на стене у нашей кухни, показывающие, как Нана подскочил на полметра за один год, баскетбольное кольцо, проржавевшее от дождя. Была я в Калифорнии, моя отдельная ветвь на этом генеалогическом древе росла медленно, но упорно. В Гане оставался только мой отец, Чин Чин, с которым никто из нас много лет не разговаривал.
Вряд ли это место дало все, на что надеялась мать в