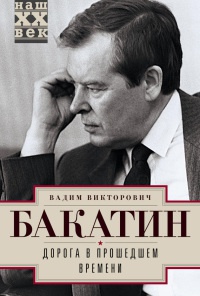Сам костер был построен в виде пирамиды шестидесяти футов высотой и, как утверждали позднее, периметром в двести сорок футов. Семьотдельно стоящих платформ были уже завалены жертвоприношениями. Венчало пирамиду красное чучело Сатаны.
Родители подтолкнули четырех юношей и девушек — чистейших из чистых, отобранных из более сотни кандидатов вперед, и те встали по двое с каждой стороны пирамиды, чтобы зажечь костер.
В воздух взлетали поющие голоса вперемежку с речитативом. Савонарола наблюдал за происходящим с колокольни Палаццо Веккио, стоя в тени и закрыв лицо капюшоном.
Когда дали сигнал и избранные шагнули с факелами к пирамиде, гул затих. С ближайших карнизов и крыш, словно предчувствуя, что сейчас будет, внезапно взмыли голуби, громко хлопая крыльями и на мгновение затмив сумеречное небо.
Элизабетта протянула руку и попросила конюшего Алессандро помочь ей выйти. За ней последовала няня Виолетта, потом родители. Сестра Элизабетты Джинетта не пошла к костру. Она отдала свою лепту — любимый воротник из бельгийских кружев — матери и осталась рядом с кучером, которому велели присматривать за лошадьми.
Пробиться к пирамиде было невозможно. Как только запылали костры и разложенные на семи платформах приношения занялись огнем, толпа хлынула вперед.
Элизабетта обхватила Виолетту за талию. Они вместе, прокладывая себе путь локтями и плечами, начали проталкиваться к костру.
Синьор Герардини взял жену Алису за руку и, сопровождаемый юным Алессандро, который нес их жертву — камзол из алой парчи и расшитое бисером платье из кремового шелка, — ввинтился в море спин.
Жара стояла такая, что Элизабетте на миг показалось, будто она сама горит на костре. Они с Виолеттой наконец добрались до основания пирамиды, окруженного к тому времени солдатами, которые сдерживали натиск фанатиков, опасаясь, как бы те не принесли себя в жертву. Монахи образовали за солдатами внутренний круг и протягивали оттуда руки, принимая все новые подношения и бросая их в огонь. Виолетта, которая до сих пор никому не показывала свое жертвоприношение, вытащила из кармана грубое деревянное распятие, подняла повыше, чтобы монахи хорошенько его рассмотрели, и швырнула в огонь.
— Я сжигаю его, потому что этот костер — тоже идол, демонстрирующий извращенную любовь к Богу! — крикнула она, хотя никто, кроме Элизабетты, ее не услышал.
Прежде чем отдать в жадно протянутые руки свой узел, Элизабетта вытащила оттуда серебряный медальон, а потом, обхватив Виолетту за талию, начала пробиваться назад, к карете отца.
Когда до цели осталось футов двадцать, она вдруг остановилась как вкопанная.
— В чем дело? — спросила няня.
Элизабетта ничего не ответила.
Леонардо, сидя на гнедом скакуне, смотрел на них прищуренными глазами. Рот у него был слегка приоткрыт, волосы убраны под широкополую шляпу.
Элизабетта бесстрастно глянула на него. «Да — ты меня знаешь. Да, это я. Прощай, мой проклятый господин!» Словно прочитав ее мысли, Леонардо развернулся и ускакал.
Элизабетта закрыла глаза. Все внутренности у нее болели.
Ноги вдруг подкосились, И она упала на Виолетту, схватив ее за плечи.
Как-то они добрались до кареты. Джинетта протянула руки и помогла сестре залезть внутрь.
Никто из них не промолвил ни слова. Они сидели и ждали. Толпа вокруг воздела вверх руки, словно пытаясь поймать луну — но та сбежала и скрылась в пелене дыма, между тем как город внизу, казалось, плыл по морю поющего огня.
Tyrannus impius non habet spem,
Et si quidem longae vitae erit,
In nihilum computabitur.
У тирана безбожного нет надежды,
И даже живи он вечно,
Он так и останется ничем.
«In pace» («В мире», лат). Стихотворение Патрика Дойла, шотландского композитора и поэта (род. 1953).
К полуночи все обратил ось в пепел, а на заре поднялся ветер.
Рано утром, когда гасили лампы, Леонардо сложил вещи в заплечный мешок и седельные вьюки, взял с собой Страцци и ушел из мастерской, заперев ее ключом на три оборота.
Последними их видели сторожа. Путники проехали через миланские ворота и направились на север.
Элизабетта почувствовала, как они удаляются. Забравшись с ногами на кровать, она прижала к животу Корнелию, закрыла глаза и отдалась потоку жизни так, словно уже успела прожить все свое будущее во сне.
«Я круг, — думала она. — Круг в круге, а внутри меня еще множество кругов, и так до бесконечности, потому что теперь, после того как он уехал, я никогда не умру».
4
Музыка играла, это правда. А карлика не было ни одного, хоть ты и обещал. Был жонглер. И ангел с крыльями: каждое перышко вырезано из бумаги, покрашено в голубой цвет с золотыми и розовыми блестками и приклеено к каркасу, сделанному тобой собственноручно. Для того чтобы развлечь меня, не жалели ничего.
Мой муж сказал: «Хочу запечатлеть ее такой, какая она сейчас, пока не увяла».
Ты передал мне его слова — и, наверное, подумал: «Сейчас она улыбнется».
Я действительно улыбнулась.
«Увянуть», когда в душе ты все еще девчонка и тебе всего двадцать четыре года, казалось мне немыслимым. Хотя к тому времени я уже родила четверых детей и что-то во мне надломилось.
Ты помнишь обезьянку? Время от времени она садилась рядом со мной или залезала на плечи. Однажды она вскарабкалась мне на голову. Мы все рассмеялись, а хозяину обезьянки пришлось приманивать се фруктами, чтобы, спускаясь, она не порвала мне вуаль. Она все-таки откинула вуаль и открыла мое родимое пятно. Ты рассердился и велел убрать обезьянку. Но я потребовала, чтобы она осталась. «Если ее уведут, — заявила я, — я не буду позировать».
Да, все это было мне знакомо: окна, выходящие на север и освещающие то место, где я сидела; гигантский комод, куда ты запихивал свои записные книжки, эскизы, коробки с карандашами и смятые листы бумаги; камин со львами, которые стояли на задних лапах и поддерживали полку; шкаф с игрушками и костюмами, масками и шляпами и голубым платьем, расшитым серебряными звездами — остатками твоих счастливых дней. А также тяжелые кресла, лампы с подставками в виде грифонов и стол.
И стол.
И стол. Верно?
Кто-то — не помню, кто именно, то ли твой друг, то ли любовник — иногда приходил и пел. Голос у него был неплохой, но мне пение не нравилось. Он пел для тебя, а не для меня. Однажды я сказала: «С таким же успехом вы можете петь обезьянке». Больше он не появлялся.
Музыканты играли на лютнях, флейтах, гобоях и на инструменте, похожем на лютню, который называется мандолиной. Приходил мальчик из хора — и пел нежно-нежно. Мне приносили моих малюток. Конечно, Эрнеста, которому исполнилось четыре года, нельзя уже было назвать младенцем, но для меня он навсегда останется малышом. Как и все остальные мои дети — теперь их уже шестеро. И еще двое умерли.