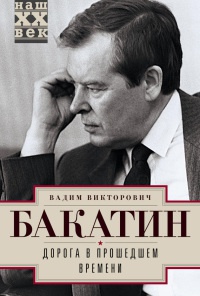Больше у меня детей не будет, и я сказала об этом мужу.
Франческо получил столь желанных сыновей, а я сделала все, чтобы обеспечить продолжение его рода. Оставшуюся жизнь я посвящу детям: буду наблюдать за тем, как они растут, и радоваться.
Став однажды матерью, ты остаешься ею навсегда — чего не скажешь об отцах. Они разбрасывают свое потомство так далеко, что, по-моему, половина живущих ныне детей так никогда и не узнает, кто их отец. Или был их отцом. Или мог быть. А половина ныне живущих отцов не знают ни имен, ни лиц, ни пола, ни улыбок своих детей. Не говоря уже о прикосновении руки, ищущей спасения во тьме.
Как грустно быть отцом!
И паршиво.
Порой, наблюдая за тобой со своего кресла, озаренного рассеянным светом, я хотела все тебе сказать. Иногда мне думалось, что ты имеешь право знать. Но я промолчала. И правильно сделала.
Я жаждала отомстить, только не знала как. Любое отмщение казалось недостаточным — кроме ребенка. Он был моим тайным оружием — как кинжал, который я чуть не воткнула тогда тебе под ребра. Во-первых, я могла сказать, что у тебя был ребенок. Мальчик. Хорошенький золотистый мальчик твои волосы, твои глаза, твоя фигура. Я свела бы тебя с ума описанием его красоты, запаха, смеха, улыбки и той чудесной открытости, с которой он воспринимал все, что я ему показывала, все двери, что я перед ним открывала… Его удивительного жизнелюбия.
А во-вторых, я могла рассказать тебе о его смерти.
Жуткой, безбожной в своей нелепости смерти.
Но потом я подумала — и я до сих пор отчетливо помню эту мысль: «Нет. Я не стану делить его гибель с тобой».
Это была и моя смерть. Больше даже моя, чем его. Он по крайней мере не понимал, что с ним происходит. Спал себе и все. Уснул вечером, а ночью умер.
Просто умер.
Вот и все, что я могу тебе сказать. Он мог уже ходить по комнате сам.
Он называл меня мамой, Корнелию — Нелей, а Виолетту няней. Кроме того, у него была игрушка, которую он звал «Па».
Больше мне нечего добавить.
Но как же я гордилась, что сумела сдержаться и не проронила ни слова! Память о нем была моим оружием против отчаяния. Я знала: что бы ни случилось со мной, его жизнь, пусть и очень короткая, послужит мне защитой. Доказательством того, что можно пережить абсолютно все.
Я благодарна ему за то, что выжила и родила его, несмотря на твое чудовищное злодеяние.
С какой стати я должна сообщать тебе имя нашего ребенка? Ты тут ни при чем. Хотя мы «сделали» его вместе, между нами не было слияния — только насилие. Соитие, совокупление, оплодотворение, даже спаривание — можешь называть содрогания на брачном ложе без любви как хочешь, но это слишком мягко сказано для того, как мы зачали нашего сына. Мы сцепились в яростной схватке. Помнишь?
Ты надругался надо мной. Ты украл у меня жизнь. И подарил мне его.
Но главное, что ты даже не испытал удовольствия. Тебе было противно то, что ты сделал. Мой муж хотя бы вздыхает, когда он на мне. Ты не вздыхал, не издал ни единого стона! меня в памяти остался единственный крик — не мой, а твой. Крик боли, Леонардо. Агонии. Мне кажется, в тот момент, издав его, ты понял, что значит убить. Это был крик убийцы. Крик зверя, который волоком тащит свою жертву. Победный вопль, означающий, чтоты вцепился противнику в горло и выпотрошил его, как леопард, свернувшийся над добычей. Знаешь, я целый год называла тебя в уме «Леонардо». Леонардо да Винчи.
Честное слово.
Ты мог бы крикнуть: «Когда я убиваю, убивают меня!» Вопрос был только в том, кто из нас умрет первым. Ибо не только ты смертельно ранил меня — я тоже смертельно ранила тебя. И знала это. Я загнала тебя в могилу. Ты умираешь, Леонардо, а я уже мертва. Ты убил меня давным-давно. Не мое тело — мою любовь к жизни.
Родители знали о ребенке и, к моему удивлению, полюбили его. Они понятия не имели о том, что он твой, хотя я до сих пор говорю это не без колебаний. «Твой» означает любовь, желание быть вместе, гордость, радость. «Твой» — это преданность идолам. Верно? Ты, наверное, помнишь тот костер, на котором мы сожгли самые любимые вещи. Я бросила в него свою свободу — собрала одежду Анджело и сожгла ее, чтобы она никогда больше не искушала меня. Кстати, я заметила, что ты ничего не бросил в костер. Ты просто отвернулся и ускакал. И тогда я поняла, что ты ничего не считаешь своим, поскольку так и не смог найти достойного жертвоприношения. Кроме одного — своего тщеславия. Оно, я уверена, так и осталось при тебе.
Ты сказал мне, что любил моего брата. Я тебе верю. Я любила его тоже, хотя мой любимый Анджело и тот, которого ты называл своим любовником, — разные люди. Если он был распутником — я рада за него, ибо это значит, что он стал свободным перед смертью. Я никогда не была и не буду свободной. Только не пойми меня превратно. Распутство для мужчины и для женщины — разные вещи. Стань я сейчас свободной, я не смогла бы больше быть самой собой. Если бы мне дали свободу тогда, я не стала бы такой, какая я сейчас. Сейчас у меня осталось лишь одно желание: чтобы мои дети жили полной жизнью. А те, которые ушли в мир иной, никогда бы не были забыты. Об одном из них ты уже знаешь, а другая — дочь моего мужа Алида — умерла за полгода до того, как я начала тебе позировать.
Я сидела, облаченная в бархат и атлас. Ты заставил меня накинуть на волосы вуаль и задрапировал окно сверху такой же светлой кисеей. Голубой. Ты хотел, чтобы свет все время был рассеянным — по крайней мере так ты мне говорил. И в комнате действительно все время ощущал ась игра света.
Ты отказался рисовать мое родимое пятно в виде бабочки, поскольку оно тебе не нравилось. На мне был серебряный медальон, но его ты тоже писать не стал. И обручальное кольцо — его не видно на картине. И подушку у меня за спиной, которую сшила Виолетта Каппици, сидевшая все время, пока ты работал, у окна с моими детьми и книгой. У нее был веер с рисунками — может, помнишь? — и время от времени она обмахивала мне лицо. На веере был нарисован сад с павлинами и лавровым деревом в цвету.
Я сняла туфли, а потом не смогла их надеть, поскольку от долгого сидения у меня распухли ноги. Ангел с бумажными крыльями нагнулся и смочил туфли в бассейне с водой, где плавали розы. Помнишь все эти подробности? Я — да. Сейчас ты во Франции. Далеко-далеко — или это только кажется? Я не умею определять расстояния. Ходят слухи, что твоя звезда закатилась. Тебе наверняка будет приятно узнать, что здесь, во Флоренции, тебя помнят, а некоторые до сих пор боготворят. В том, что ты умрешь, я не сомневаюсь. Но у меня нет желания распространяться на эту тему — мне просто хотелось, чтобы перед смертью ты узнал правду о нашем ребенке. Если рай существует, ты сможешь увидеть его там. А нет — значит, нет.
Говорят, ты взял меня с собой. Ты, дескать, не захотел со мной расстаться, а стало быть, мой муж лгал, заявляя, что отказался от портрета. На самом деле ты просто не отдал меня ему. Ты утверждал, что потрет незакончен. А еще говорили, что ты влюблен в меня.