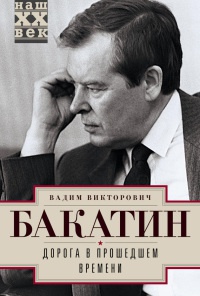Тем не менее, несмотря на свои лютеранские идеалы и представления о том, как нужно управлять государством, синьория и ее совет, руководимый Савонаролой, были популярны, особенно среди торговцев среднего и высшего класса, поскольку налоги пересмотрели в их пользу. Налоги для богатых и бедных тоже пересмотрели — с тем, чтобы окончательно их разорить.
Наступило время религиозного рвения и набожности, с одной стороны, и растущего недовольства и безмолвного возмущения — с другой.
Все это достигло кульминации во время сожжения идолов в 1497 году.
(Надеюсь, тебе помогут мои заметки, хотя, честно говоря, меня от этого тошнит и я рада, что мне не пришлось жить в то время. Что бы ты принес в жертву в день сожжения идолов, мой дорогой? Ума не приложу. Даже самая мелкая, но любимая вещь — слишком большая жертва. — Э.Ю.)».
* * *
Юнг перерезал бечевку — и сразу пожалел об этом при виде надписи, сделанной синими чернилами. Сибил Куотермэн написала: «Герру доктору К. Г. Юнгу», напоминая ему о том, что это «Пакет номер один». Последние три слова были подчеркнуты тремя жирными линиями, проведенными без линейки. Они были волнистыми из-за вина, которое она выпила.
Отложив в сторону коричневую оберточную бумагу, Юнг обнаружил, что вкус Пилигрима в отношении переплетов столь же изыскан, как и в области каллиграфии. В отличие от первого дневника второй был переплетен в дымчато-серое сукно, как корабельный журнал. Быть может, расцветка являлась данью излюбленному «сфумато» Леонардо — «дымки времени», которой он заволок свои полотна? Вполне возможно.
Юнг посидел минутку, положив ладонь на обложку и рассеянно поглаживая ее. Он внушал самому себе:-«Переверни страницу!»
«Ну почему все это так печально?» — подумал он.
А потом понял: «Потому что последней, кто касался этой ткани, была леди Куотермэн, погребенная ныне под снегом».
Первая страница была почти пустой. С правой стороны, внизу, Пилигрим написал: «Молитесь, чтобы не впасть в отчаяние». А ниже — буквы «С. Мл.».
Сокращение ничего не говорило Юнгy, Но он решил, что спросит у автора.
На второй странице над словами нахально, без всяких объяснений, парила цифра:
7-е
А потом:
Вы, женщины, похваляющиеся своими украшениями, волосами, руками, я говорю вам — вы уродливы. Хотите увидеть истинную красоту? Посмотрите на благочестивых людей, в которых дух господствует над материей; посмотрите на того, кто молится, и вы увидите свет божественной красоты, озаряющий его, когда он закончил молитву. Тогда вы увидите красоту Господа, сияющую на его лице, и узрите лик ангельский.
Так нас журил Священник.
И далее:
Сон
Антонио Герардини, его жена, дочери и слуги собрались на площадь Синьории для сожжения идолов. Всем велели найти свою лепту. Годилась любая вещь, если только ее уже не выбрал кто-то из домочадцев. Они решили, что поедут на площадь в карете, но без гербов, дабы продемонстрировать свое благочестие.
В четыре часа пополудни Элизабетта собирала свою дань в спальне, складывая вещи на большую белую скатерть, которую она потом завяжет и понесет с собой. Залитая солнцем скатерть лежала у нее на кровати, туда оставалось положить всего одну вещь.
Кошка Элизабетты Корнелия сидела в дверном проеме. В приоткрытую дверь струились солнечные лучи. Шерстка у кошки была пятнистой, рыже-серой. Глаза зажмурены, а хвост свернулся в пыли вопросительным знаком.
Окна были открыты. Особняк, стоявший на холме, выходил фасадом на юго-запад, и Элизабетта видела смутные пятна на небе — там, где над речными туманами вздымался главный собор с колокольней и клубился дым первых костров.
Она села.
Последняя вещь, которую я люблю.
Она украдкой бросила взгляд на Корнелию.
Никогда. Никогда. Нет! Животное — это не идол.
На скатерти уже лежали любимые лосины и камзолы Анджело, его кожаные сапожки, перчатки с завязками на запястьях, бархатные шапочки, рубашки в складку. Осталась последняя вещь.
Элизабетта знала, что это за вещь, поскольку держала ее в руках. Самая большая драгоценность. Самое любимое имущество. Портрет Анджело в серебряном медальоне, написанный, когда ее брату было пятнадцать лет. А с другой стороны миниатюра того же художника с изображением самой Элизабетты. Оба одеты в свои излюбленные серо-голубые тона. Ни он, ни она не улыбались. Это было запрещено.
Сейчас Бетта была в женском платье. Она сняла с груди повязку и прикрыла волосы скромной вуалью. Никаких драгоценностей, перчаток или шарфов — и самые простые туфли.
Синяки на ногах, руках и бедрах были прикрыты. Никто не видел их, кроме нее самой, даже няня Виолетта.
Сегодня утром после молитвы Элизабетта сказала отцу, что готова подумать над предложениями женихов. Она навсегда отреклась от мужской одежды. Хватит оплакивать Анджело. Жизнь продолжается. Она обязана выполнить свой долг — выйти замуж, нарожать детей и занять в обществе положенное ей скромное место.
Элизабетта монотонно пропела эту литанию серости и бездарности, глядя на руки отца, сложенные на столе напротив нее. Она устала. Она потерпела поражение. Она сдалась.
Отец воспринял раскаяние с пониманием, чуть ли не с сочувствием. Сказал, что рад ее возвращению, поцеловал и благословил. Даже улыбнулся.
Сейчас они поедут на площадь, внесут свою лепту в сожжение идолов и вернутся домой. Все будет кончено.
В сумерках карету подали к крыльцу. Светло-серые дверцы с монограммами отца и гербовыми щитами гильдии были задрапированы черной тканью. Элизабетта улыбнулась. В конце концов, они едут на похороны — кремацию ее прежнего «я», чья, жизнь оказалась такой короткой.
Улица была, так запружена экипажами, всадниками и пешеходами, сливавшимися с разных сторон в единый поток, что синьор Герардини велел кучеру слезть и вести лошадей в поводу до тех пор, пока дорога не станет посвободнее.
Перед ними прошла колонна поющих священников и церковных служек, возглавляемая четырьмя детьми-ангелами, которые несли на плечах изваянного Донателло младенца Христа. Ангелы были в белом, с бумажными крыльями, священники — в серых рясах.
Зазвонили все колокола на всех городских церквах. В любой другой год это послужило бы сигналом для безудержно веселого карнавала — с конфетти, летящими из каждого окна, толпами танцоров, музыкантов, лоточников, мужчин в маскарадных костюмах и женщин в масках. Все кони гарцевали бы, собаки — лаяли… Но не сейчас.
Фанатики рыдали и нараспев выкрикивали имена святых; будущие мученики несли на спинах кресты. Запах ладана проникал повсюду. Горожане несли с собой жертвоприношения — кто шел с узлом, кто с ящиком, некоторые с картинами и книгами, а другие — с масками и лентами, карнавальными костюмами, шляпами и красочными флагами, что символизировало отказ от развлечений.