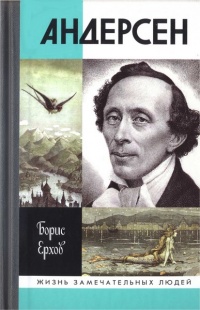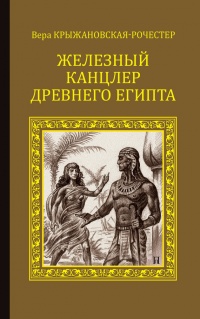Но мы не увидели ни светлого берега Ростока, ни маячного огня. Команда заявила, что Любека нам не достигнуть, ока не дождемся более благоприятного ветра. В довершение неприятностей разбушевавшиеся стихии не позволили нашему кораблю под парусом войти в устье реки, мы прождали два часа, прежде чем лоцману удалось сманеврировать.
Сеньор, который терпеть не мог менять свои планы, а пуще того ненавидел положения, когда ничего невозможно сделать, притворялся, будто читает, потом разговаривал на полуюте с Тенгнагелем, покуда его сестра и его же супруга продолжали браниться. По временам он бросал на них яростные взгляды, грозно требовал, чтобы две младшие дочери наконец замолчали, но при этом собственные длиннющие усы хлопали его по щекам, взметаясь аж до висков, и даже его воротник то и дело презабавным образом топорщился, делая лицо еще смешнее. Из-за этого он не мог напугать никого, даже собственных детей. Что до женщин, они, поглощенные спором, не замечали ни его гнева, ни моей нескромности, так что я мог сколько угодно слушать их препирательства.
Сиятельная дама Кирстен упрекала Софию, что та даже не пыталась умерить страсть своего брата к научным занятиям, каковая и привела все его семейство к изгнанию. София же в свой черед отвечала, что не намерена более терпеть болтовню особы, которую он так и не пожелал по-настоящему взять в жены. Услышав такое, Кирстен Йоргенсдаттер чуть ее не укусила, а потом закричала:
– Сами-то вы! Муж ваш покойный был до того стар, что небось ни разу вам и больно не сделал, ваш сынок, говорят, и думать про вас забыл, а касательно вашего суженого, не сдается ли вам, что он от вас сбежал?
– Эрик Ланге в долгах, – заявила София, – ему закрыт путь в Данию.
– Что ж, отныне вы сможете разделить с ним его участь изгнанника, – безжалостно уязвила противницу Кирстен (Мы уже знали, что Эрик, прослышав о нашем скором приятии, уехал из Ростока в Магдебург по некоему важному делу.) – но может быть, – продолжала она, – вам больше по душе делить изгнание с вашей служанкой Ливэ, недаром же вы ее лелеяли с такой поистине материнской нежностью!
При этих словах София Браге вскочила с места, будто хотела ее ударить, но туг Господин окликнул меня: «Иеппе!» и жестом приказал отойти от них прочь, не слушать того, что они говорят. Я хотел было забраться к нему по канатам, но он дал понять, что мне лучше отправиться на корму, где уже находился его сын Тюге. Вздохнув, я пристроился у него за спиной и стал глядеть на приближающиеся шлюпки.
– Тебе все еще по вкусу твой жребий? – полюбопытствовал Тюге.
– Другого не хочу, – отвечал я.
По пути в Любек нас постигло еще одно крайне неприятное осложнение. Экипажи, которым полагалось ждать нас в Ростоке, прибыли туда лишь неделю спустя, мы располагали только одной каретой, все той же, еще с Гвэна, тесной и тряской оттого, что так много поездила по каменистым дорогам. Сеньор нанял помимо нее еще две.
Он подыскал дом неподалеку от больших ворот с двумя башнями, охранявшими вход в город. Как только мы прибыли, он послал людей на поиски врача для своего сына Иоргена, очень жаловавшегося на боль в ноге, и прогнал прочь пастора Венсосиля, который, напившись пива, заявил, что бежать совсем и не собирался, его принудили.
– Это еще что за вздор? – удивился хозяин.
– Вы так себя ведете, будто спасли мне жизнь, – сказал святой отец, – а на самом деле вы меня решили похитить, чтобы я не мог ответить на вопросы ваших судей.
Продолжался их спор уже без меня. Но я смекнул, что Венсосиль желает вернуться в Данию, считая, что пожизненная тюрьма ему не грозит, а мой господин, утверждая обратное, больше всего боится, что, оказавшись там, пастор выльет на него целые ушаты обвинений.
В полночь, когда команда отправилась на ночлег и шум в доме утих, я прилег и, засыпая, видел, как хозяин отстегнул свою шпагу и, встав у окна совсем один, осенил себя крестным знамением.
Утром, едва продрав глаза, я встретился взглядом с псом Лёвеунгом, который разлегся на господских сапогах, и услышал, что внизу уже опять разгорелась женская свара.
Они ругались подобным образом все то время, что мы провели в Любеке. Венсосиль покинул нас, как и говорил. Сеньор избегал показываться на люди, чтобы городские власти не узнали о нашем прибытии, поскольку опасался, что его могут задержать по пути в Росток, где его ждали друзья. Итак, ему приходилось сносить беспокойный нрав своих домашних, весьма сожалея об отсутствии Лонгомонтануса, чьего молчаливого терпения ему уже заметно не хватало.
В первый же день он послал нас с Хальдором за двумя ведерными бочонками белого уксуса, каковой мы нашли на рынке, на площади перед забавной церковью со стеной, в которой имелись два круглых отверстия диаметром фаунеров по десять, если не больше, сквозь них можно было созерцать небесную синь и пролетающих птиц.
Следующие дни Сеньор потратил на писание писем и прием докучных посетителей, любопытных к его славе и обстоятельствам изгнания, – все это были, как на подбор, датчане. Посланец герцога Ульриха Мекленбургского явился, дабы от имени своего господина выразить сожаление, что препятствия вынуждают знаменитого Тихо Браге отсрочить свой визит к нему. «Мы попросим Хритэуса и Бакмейстера отобедать с нами на пиру в честь долгожданного посетителя, как только он прибудет», – прибавил посланец, имея в виду ученых, знакомых Сеньору с юных лет, проведенных в этом городе. В своем ответе мой господин щедро расточал любезности, адресованные не столько герцогу Meкленбургскому, сколько деду датского монарха.
Сиятельная дама Кирстен с видимым состраданием слушала, как супруг самодовольно комментирует послание герцога. Тихо Браге все еще считал, что при дворе у него есть соперник, который очернил его перед государем. Он не желал признать, что навредил себе сам. И рассчитывал, что влияние герцога Ульриха поможет ему возвратиться в Данию, перехитрив короля своей игрой в изгнанника.
Что до сиятельной дамы Кирстен, она-то понимала что мы никогда не вернемся. Вскоре она призвала меня к себе и просила пустить в ход одно из своих пророчеств, чтобы и ему помочь наконец осознать это.
– Я дал слово воздерживаться от предсказаний, – объяснил я ей. – Господин потребовал от меня этой клятвы.
– Стало быть, – вздохнула она, – он боялся, как бы твои слова не подтвердили то, что он и сам знает.
С этого дня я стал смотреть на нее по-другому. За ее неутолимой жадностью к еде, музыке и усладам Венеры скрывалась великодушная, заботливая натура. Глядя, как она сидит на своей пышной заднице в платье, пестреньком, как оперение цесарки, я умилялся той горестной преданностью, которую она испытывала к своему супругу и немногими скупыми словами дала мне это почувствовать. Она сказала, что в моих пророчествах нет никакой надобности: чтобы разуверить его, мне достаточно проявить полное равнодушие к безрассудным мечтам о возвращении.
– Могу я на тебя рассчитывать? – спросила она. Я уверил ее, что да, она погладила меня по голове, и сердце мое сжалось от сочувствия к этой женщине, обделенной умом, но не лишенной добрых свойств.