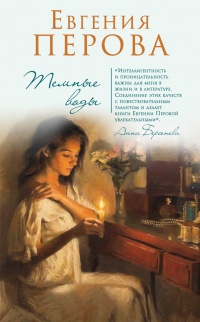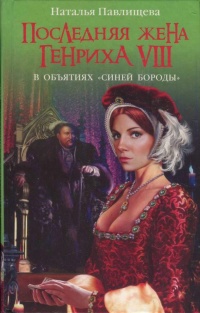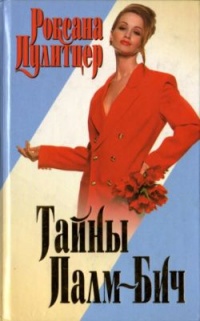В полусне я почти не удивляюсь, что отвердел. Пальцы мои, поддерживающие ее на оси моего члена, почти смыкаются вокруг ее талии, которую обвивает серебряная цепочка, увешанная амулетами. Какими бы ни были ее чары, они сильны: мы трудимся и трудимся. У нее длинные конечности, она гибкая, с высокой грудью и узкими бедрами. Кожа у нее светится, а темные глаза полны порочного знания. Сменив положение, я вижу, что ягодицы у нее круглы, как полная луна. На руках и ногах у нее чернильные узоры; когда я склоняюсь над ней, стоя на коленях, бледные подошвы являются мне как подношение.
Когда комнату заливает дневной свет, я один. Но груда овечьих шкур возле меня хранит безошибочный отпечаток женского бедра.
Я вижу образы, один за другим, грубые картины, слишком яркие и странные, чтобы быть долго хранимыми воспоминаниями. Боже, что за джинн в меня вселился? Я — евнух, я урезан, это невозможно. Я лежу, иссушенный и изможденный, болтаясь между неверием и уверенностью, восторгом и стыдом. Наверное, это все киф или неведомые чары той женщины. Но теперь сердце мое, как магнит, устремляется к Элис, и тихий торжествующий голосок шепчет: пусть я и не могу подарить женщине ребенка, я могу дать ей наслаждение, а разве это само по себе не дар?
Наше пребывание в Сиджильмассе оказывается только краткой передышкой, поскольку появляются слухи, что союзники повстанцев, берберы аит-атта, вместо того чтобы присягнуть на верность султану, оставили свои крепости в долине Драа и отступили в Атласские горы. Вскоре приходят и дерзкие послания от вождей-отступников, побуждающие Исмаила напасть на них. В горы высылают разведчиков; много дней спустя возвращается лишь один, раненый, и прежде чем испустить дух, сообщает, что мятежники укрылись высоко в пещерах среди неприступных известняковых утесов Джебель-Сагро.
Мы снова выступаем, несмотря на то что в разгар зимы Атласские горы — опаснейшее место. Но Исмаил настроен усмирить беспокойные племена или полностью их уничтожить. Виды кругом восхитительные, но от мороза цепенеешь, и многие проходы занесены снегом. Даже суровейшие из бухари страдают: они выросли в тропиках и не привыкли к таким отчаянным условиям. Один за другим мы гибнем, нас калечит обморожение, потом начинается гангрена рук и ног. Но Исмаил по-прежнему непреклонен и ведет нас вперед.
Когда мы подходим, с гор для переговоров спускаются три вождя. Вид у них неуступчивый, лица и взгляды тверды, и, хотя они улыбаются, приносят дары и произносят хвалы, улыбки их не касаются глаз, особенно когда Исмаил предлагает им в дар хлопковые рубахи, бесполезные зимой и скверной работы, словно считает их за нищих.
— Я им не верю, — тихо говорю я бен Хаду, который стоит рядом со мной, наблюдая за представлением.
Он не шевелится и не отводит глаз от султана.
— Не важно, веришь ли им ты или я. Они поступят так, как сочтут нужным, а Исмаил — так, как сочтет нужным он. В этой игре игроки они, а мы только наблюдаем.
— Наблюдатели, которые могут по чужой прихоти погибнуть.
Тут он поворачивается ко мне. Лицо его бесстрастно.
— Жизнь и смерть сменяют друг друга по простой прихоти, Нус-Нус. Удивительно, как ты умудрился так долго выживать при дворе, не усвоив этот урок.
Вожди уходят, высказав намерение вскоре вернуться со всем племенем аит-атта, чтобы сложить оружие перед императором. И мы ждем на пронизывающем холоде, поедая наши более чем скудные припасы.
Когда проходит месяц, а берберы все еще не сдаются, становится ясно, что они и не собирались, вместо этого потратив время на то, чтобы укрепить оборону и подготовить войска. Исмаил в ярости. Не слушая никаких доводов, он велит нападать.
— Пророк говорит, что капля крови, пролитая во имя Бога, ночь при оружии стоят больше двух месяцев поста и молитвы! Тому, кто падет в битве, прощаются грехи: в Судный день раны его будут блистать, как киноварь, и благоухать, как мускус; а утрату конечностей ему восполнят крылья ангелов и херувимов! Во славу Аллаха и нашего великого королевства, в бой!
Прекрасная речь, но генерал от кавалерии и тут продолжает возражать. Его быстро заставляют умолкнуть — язык его еще шевелится, когда голова падает на землю.
Это кладет конец сомнениям: мы наступаем по крутым склонам, потрясая оружием, выкрикивая вызовы. Но, разумеется, мертвый кавалерист был прав: лошади здесь совершенно бесполезны. Им не пройти по узким козьим тропам или предательским каменистым осыпям в этих горах; лошади вокруг нас спотыкаются и падают, становясь не меньшей опасностью, чем берберские стрелы, летящие с небес. Европейский солдат-отступник рядом со мной жестоко ругается, когда мимо него со свистом проносится стрела:
— Очи Христовы! Что за сучье племя? Дикари чертовы! Никто давно не воюет стрелами, пес их дери!
Крик раненой лошади страшен, он потрясает даже самых закаленных в боях солдат. Я, чья боевая закалка исчезающе мала, чувствую, как подгибаются мои колени и слабеет рука, сжимающая ятаган. Бедные создания, думаю я. Что, я тоже буду так кричать в самом конце?
Вдохновленные адскими звуками внизу, берберы выходят на уступы и, поскольку мы подошли на расстояние выстрела, палят по нам из мушкетов. Пуля отскакивает от булыжника неподалеку от меня, и осколок камня бьет меня по голени. Боль так сильна и так неожиданна, что я невольно вскрикиваю, и мне тут же становится стыдно, хотя крик тонет в общем шуме: из пореза сочится кровь, но его едва ли можно назвать раной. Лезь вперед, Нус-Нус, говорю я себе, пусть легкие твои горят, и ты едва знаешь, как стрелять из пистолета, который у тебя на бедре. Не обращай внимания ни на мертвых, ни на умирающих. Не смотри вверх. Бога ради, и, что бы ты ни делал, не смотри вниз…
Земля круто идет вверх, и кавалерии приходится отойти. Выживших лошадей седоки под уздцы уводят по склону горы, которого не видит султан. А нас, остальных, когда мушкеты собирают свою дань, ведут под защиту оврага каиды, и мы продолжаем карабкаться, убрав мечи в ножны, поскольку для опоры нужны обе руки. Размахивать оружием здесь нет смысла: враг высоко, а император, любящий смотреть, как сверкают клинки его наступающей армии, далеко внизу. Упираясь ногой в неверную землю, обрушиваешь град камней на голову того, кто идет следом; ты для него опаснее врага. Я осмеливаюсь бросить взгляд назад и тут же жалею об этом: земля с одной стороны отвесно уходит вниз. Словно ползешь над бездной. Сердце мое колотится так сильно, что я не могу вдохнуть; мгновение у меня кружится голова, и я боюсь, как бы меня не стошнило.
А винить можно лишь себя самого! Мог бы остаться с удобством при гареме в пологих зеленых долинах у Мелвийи и обороняться только от великого визиря, а не сражаться с тысячей коварных кочевников на их родном осыпающемся горном склоне. Хотя, слава Аллаху, должен сказать, стрелки они никудышные! Почти никого из наших не сняли выстрелом, хотя многих ранили, и они потеряли равновесие. Не успеваю я утешиться этой мыслью, как, подняв глаза, вижу, что уступ над нами кишит берберами. Длинные стволы их ружей смотрят вниз, гора словно родит их, с каждым мгновением их все больше.